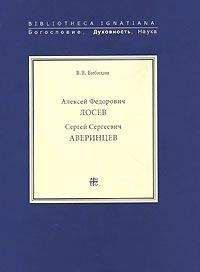Да, в эпоху религиозных конфликтов исторические отличия между двумя традициями обретали губительную остроту, вплоть до появления мучеников с той и другой стороны. Отрицать это невозможно. Но даже в самые тяжелые моменты возможность религиозных контактов остается реальной. Капелла Ягеллонов в Кракове гордится фресками русских мастеров; в русской (и украинской) духовной литературе XVII века мы находим многочисленные отзвуки польской католической духовности. Я упомяну лишь одно имя, но имя великое: св. Димитрий Ростовский (Туптало) (1651–1709). Он был иерархом Русской православной церкви украинского происхождения, очень значительной фигурой в анналах русского богословия и духовности, но также в истории нашей литературы. Св. Димитрий Ростовский был первым драматургом, принявшим за образец знаменитые иезуитские каноны литургической драмы. Он вел аскетический образ жизни в суровой бедности, не имея ничего, кроме удивительного собрания книг — главным образом латинских и польских! Не только на поэзию, но и на его духовность сильно повлияло прекрасное знание католических авторов. Оставаясь последовательно и искренне православным и храня глубокую верность епископу своей церкви, он имел смелость не только открыто защищать некоторые пункты католического вероучения (явление очень обычное в среде тогдашнего украинского православия), но даже почитать св. Клару Ассизскую, высочайший пример женской добродетели, и переводить в частном порядке такие типично католические молитвы, как Anima Christi. И все это было возможно в эпоху очень резких религиозных конфликтов! Вы видите, что диалог между христианами различных конфессий вовсе не идеологическое изобретение нашей экуменической эпохи: этот диалог был необходим в любую эпоху, поскольку он являет собой обмен духовным опытом, необходимый для плодотворной богословской деятельности сознания. Св. Димитрий был, возможно, наиболее значительным примером рецепции католических влияний в среде просвещенного православия, но примером не единственным. Среди русских святых, столетиями прославляемых и почитаемых Русской православной церковью, есть и другие примеры открытости навстречу духовному опыту западных братьев, и католикам, и протестантам. Великий аскет и писатель, святой Тихон Задонский (1724–1783), — явившийся олицетворением русской духовности, богослов сострадания по преимуществу и прообраз того типа святости в литературе, который воплотил старец Зосима из «Братьев Карамазовых» Достоевского — с большим воодушевлением читал трактаты немецкого лютеранского мистика Иоганна Арндта (1555–1621) и англиканского теолога Джозефа Холла (1574–1656); он приспособил их благочестивые сочинения для русского православного читателя. В ту же самую эпоху греческий монах Никодим Святогорец (1749–1809), выдающийся знаток греко-православной духовности, составитель «Добротолюбия», гигантской антологии византийских духовных сочинений, обращался также к текстам католического благочестия и опубликовал знаменитый перевод сочинения «Духовная брань» (Combattimento spirituale) кьетинского монаха XVI века Лоренцо Скуполи. Это руководство по аскетике было затем переведено с греческого языка на русский и стало невероятно популярным в монашеской среде, но ценилось и такими людьми, как Лев Толстой.
Как видите, конфессиональные барьеры, отделяющие православную Россию от католического мира и, тем самым, даже от такой близкой страны, как Польша, весьма действенны на уровне государственной и церковной политики, но их как будто не существует с точки зрения духовной.
После исторических сведений мне хотелось бы привести и чисто личные впечатления. Во хрущевские времена, студентом Московского университета, я был свидетелем того, как польская девушка, католичка, посещавшая то же самое учебное заведение, что и я, вела тихую миссионерскую работу среди своих товарищей, советских студентов атеистов, проповедуя православную веру (и ее братский порыв вдохновлял самих верующих). Эта католичка трудилась на благо православных.
Да, действительность далеко не всегда столь безоблачна. В советскую эпоху преследования помогали сплочению различных церквей поверх всяческих барьеров; но в наши сравнительно спокойные времена стать выше вековых распрей — задача очень и очень непростая. Однако я хотел бы сосредоточиться на материях, не имеющих отношения к идеологии. Психологические особенности польского и русского характера и, прежде всего, религиозная психология, имеют много общего. Как вы знаете, великий Достоевский, увы, часто выказывал неприятие польского католичества; но совсем не случайно именно польские читатели бывают особенно очарованы его романами, ведь дух этих романов, эта смесь фантастики и психологизма парадоксальным образом близка их восприятию.
Чтобы почувствовать общность нашего мироощущения, возможно, стоило бы обратиться к русским и польским литургическим песнопениям.
Здесь, в Италии песнопения в честь Мадонны достаточно радостны:
Mira ‘l Tuo popolo
O Bella Signora… [4]
Но в России богородичные гимны, в особенности народного происхождения, словно бы подрагивают от сдавленных рыданий. Вот одно из них:
Царице моя преблагая
Надеждо моя, Богородице,
Приятелище сирых
И странных предстательнице,
Зриши мою беду, зриши мою скорбь,
Помози мне яко немощну, окорми мя яко странна.
Этот гимн поется очень медленно, как бы заунывно, и верующие обыкновенно преклоняют колена. Они чувствуют, что беззащитны, как дети. Кто же защитит этих несчастных детей, этих бедных грешников, если не их мать? Тема вселенского материнства Богородицы, сама по себе общая для всех народов как православных, так и католических, приобретает у каждого из них свои, особые акценты. Объектом особого почитания языческих предков русского народа было космическое материнство «Сырой Земли»; позднее подобного рода представления оформились в соответствующий образ, так что некоторых русских еретиков XV века обвиняли в том, что они исповедуют свои грехи «Сырой Земле» (вспомним Раскольникова, героя-убийцу из «Преступления и наказания» Достоевского, который делает совершенно то же самое). На самом деле, хотя эта специфическая черта русского благочестия воспринималась как ересь, его нельзя назвать чистым язычеством, учитывая христианский контекст нового образа земли, скорее напоминающий о «матери нашей Земле» св. Франциска, чем о разного рода языческих хтонических божествах.
Слезный тон приведенного гимна весьма характерен для нашей национальной духовности; но в культуре польского католичества можно отыскать очень близкие параллели. В песнопении Ченстоховской Богородице, написанном в XIX столетии, Мария характерным образом именуется «Матерью, полной сострадания и скорби» (Matko miłości i Matko boleści). «Матерь скорби» — каждый из нас, русских, в глубине души ощущает, что этот образ необыкновенно близок нам, и это совершенно особая близость «Скорбящей Матери» (Mater dolorosa) Джованни Баттисты Перголези [5]. (Западноевропейский человек, не лишенный чувства и фантазии, может ощутить это проникновенное славянское почитание слезы, читая некоторые страницы Достоевского или слушая некоторые пьесы Шопена).
В эпоху Горбачева я воспользовался первой же предложенной мне возможностью поехать в Польшу, чтобы принять участие в литературоведческой конференции. Я с радостью говорил моим слушателям в Варшаве: «Мы, русские, глубоко повинны перед вами еще с царских времен, и в особенной степени ответственны за то, что происходило в советские времена. Каждый русский, который чего-нибудь стоит, знает это. Но этот русский, который чего-то стоит, способен понять вас, вашу веру, вашу скорбь и вашу душу, как никто другой».
И все же, несмотря на всю внутреннюю близость русского и польского религиозного темперамента, поляки — католики, и в этом смысле принадлежат западному легкому. А как насчет нашего легкого? Мне скажут: «Такой современный авторитет, как Хантингтон, утверждает, что православие, такое, как оно есть, несопоставимо с европейской цивилизацией. Есть ли Вам что сказать в защиту противоположной точки зрения?» Правда, в этом случае стоило бы еще добавить: «Пожалуйста, избегайте ссылаться на того или иного православного святого, лично заинтересованного западной духовностью; мы не расположены говорить об исключениях, которые подтверждают правило, но лишь о самих правилах, об общих вопросах».
Я не нахожу в православной традиции предмета более общего и понятия более осязаемого, чем икона, поэтому я скажу об этом.
Восточнохристианская традиция иконы, возникшая в Византии и затем развивавшаяся и раскрывавшаяся на пространстве Восточной Европы, от Македонии до монастырей русского Севера, представляет собой художественную реальность совершенно особого свойства, некую середину между эмоционально-чувственным воображением Запада и статично-схематичным воздействием индуистских янтр [6] или мусульманских каллиграфических композиций. Она не тождественна ни первому, ни второму, и она соединяет в себе некоторые существенные элементы обоих этих миров; например некоторые сакральные монограммы, заставляющие нас вспомнить о восточной любви к каллиграфии, столь же необходимо принадлежат к облику иконы, как фигуративные изображения. Традиционные законы иконописания не допускают ни сладостности ренессансных Мадонн, ни корпулентности барочных святых; но уход от чувственного никоим образом не лишает человеческое лицо и человеческую фигуру их ранга центральных отображений Божественного Первообраза, и при всей аскетической модификации определенные аспекты античного творческого подхода оказываются удержанными, предотвращая какую-либо возможность полного погружения в стихию Востока. Движение становится величаво-медлительным, но не сменяется полной бездвижностью буддийских образов; восприятие пространства мистически преобразуется, при этом пространство не перестает существовать; эмоция подчиняет себя аскетической дисциплине, не заменяясь безэмоциональностью нирваны. Персоналистическая парадигма портретирования поздней греко-римской культуры, какую мы находим в так называемых «фаюмских портретах», входит в византийскую икону через своего рода сублимацию — не теряя при этом своего существеннейшего содержания (identità essenziale).