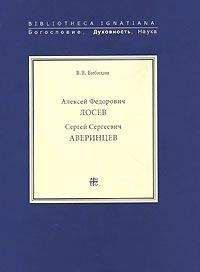Восточнохристианская традиция иконы, возникшая в Византии и затем развивавшаяся и раскрывавшаяся на пространстве Восточной Европы, от Македонии до монастырей русского Севера, представляет собой художественную реальность совершенно особого свойства, некую середину между эмоционально-чувственным воображением Запада и статично-схематичным воздействием индуистских янтр [6] или мусульманских каллиграфических композиций. Она не тождественна ни первому, ни второму, и она соединяет в себе некоторые существенные элементы обоих этих миров; например некоторые сакральные монограммы, заставляющие нас вспомнить о восточной любви к каллиграфии, столь же необходимо принадлежат к облику иконы, как фигуративные изображения. Традиционные законы иконописания не допускают ни сладостности ренессансных Мадонн, ни корпулентности барочных святых; но уход от чувственного никоим образом не лишает человеческое лицо и человеческую фигуру их ранга центральных отображений Божественного Первообраза, и при всей аскетической модификации определенные аспекты античного творческого подхода оказываются удержанными, предотвращая какую-либо возможность полного погружения в стихию Востока. Движение становится величаво-медлительным, но не сменяется полной бездвижностью буддийских образов; восприятие пространства мистически преобразуется, при этом пространство не перестает существовать; эмоция подчиняет себя аскетической дисциплине, не заменяясь безэмоциональностью нирваны. Персоналистическая парадигма портретирования поздней греко-римской культуры, какую мы находим в так называемых «фаюмских портретах», входит в византийскую икону через своего рода сублимацию — не теряя при этом своего существеннейшего содержания (identità essenziale).
Этот художественный и духовный синтез, возможный благодаря равновесию между двумя крайностями — типичным для Востока негуманистическим чувством сакрального и устремившимся к секуляризму гуманизмом Запада, — как кажется, имеет особое универсальное значение, переходящее границы искусства, даже искусства религиозного. Оставаясь аскетичной и духовной, икона сохраняет конкретность Лица (Лика), отсутствующую в неевропейском религиозном искусстве. Я уверен, что эта особенность эмблематична, потому что идея Лица занимает до такой степени центральное положение в европейской системе ценностей, что без этого понятия названная система ценностей не могла бы существовать.
Сначала я говорил о возможности для русских и польских христиан понимать друг друга поверх границ католической или православной культур; в этом смысле мы, два славянских народа, можем вызывать известное отторжение у итальянского религиозного чувства. Но я должен сказать, что в различные эпохи удивительный мир итальянской духовности имел огромное значение для русских христианских интеллектуалов. Как вы знаете, можно говорить о совершенно особом положении св. Франциска как покровителя интеллектуалов, далеких от католицизма!
В общем, говоря об Италии и России, нужно помнить не только о различиях, но также о ряде черт глубоко родственных.
Стоит задуматься о тех исторических чертах, какие приобрело христианство в Италии и в России, и тут же начинаешь ощущать замешательство от преизобилия, с одной стороны, черт сходства, а с другой — контрастов. Так много общего: память о византийском наследии, особенно ощутимая, конечно, на полугреческом юге, к примеру, в Палермо, однако исторически присутствующая и в Риме, например, в отданной когда-то бежавшим от иконокластов константинопольским монахам церкви Санта Мария ин Космедин; почитание Божьей Матери и чудотворных икон, которым то там, то здесь воздвигнуты обители; народное благочестие, проникнутое порой доходящим до колоритных суеверий и всегда далеким от протестантского морализма вкусом к конкретному… Когда русский человек читает в вышеупомянутой Санта Мариа ин Космедин надпись XII века, где Матерь Божия именуется «Божией Премудростию» (Deique Sophia), когда он слышит от жителя столь, казалось бы, буржуазной и одновременно коммунистической Болоньи, что город этот до сих пор живет по-иному те несколько дней в году, на которые чудотворную икону приносят из местного Santuario, когда он видит, что делается с Неаполем в ожидании чуда св. Януария, — все это вызывает чувство, поистине близкое к ностальгическому. Недаром молодой итальянский граф из гоголевского отрывка 1839 года «Рим», возвращаясь в отечество из заграничных скитаний, переживает благочестивые чувства, какие вполне мог бы питать в аналогичной ситуации набожный россиянин: «Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что: молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желанье молиться, что пробудилось было у него на душе, и молитва эта, верно, была лучшая…»
Италия, простосердечная и безотчетно, непосредственно молитвенная, противопоставлена охладевшим к вере «умным землям Европы» в точности так, как им обычно противопоставляется Россия. Внутри привычной славянофильской двучленной формулы на месте, нормально отведенном «святой Руси», оказывается Италия; уже то, что это возможно, говорит о многом.
У Федора Достоевского, чистый и целомудренный, то есть, очевидно, христианский идеал красоты, противостоящий «идеалу Содомскому», именуется на итальянский манер «идеалом Мадонны». Здесь трудно не вспомнить, что среди изображений Мадонны, созданных итальянским Высоким Возрождением, одно получило в истории русской культуры XIX-XX вв. совсем особое значение. Речь идет о картине Рафаэля, изображающей Деву Марию на облаках со святыми Сикстом и Варварой, находящейся в Дрезденской галерее и известной под названием Сикстинской Мадонны. Абсолютно невозможно вообразить русского интеллигента, которому не была бы известна эта работа. Великий русский поэт-романтик первой половины XIX века Жуковский посвятил ей прочувствованное мистическое истолкование, имевшее довольно широкое влияние. Не случайно репродукция Сикстинской Мадонны висела над смертным ложем Достоевского. Русский православный богослов Сергей Булгаков рассказывал, что его первая встреча с этой Мадонной в Дрезденской галерее в конце XIX века была им пережита как сильнейший импульс для возвращения к вере и в Церковь. Позже он, принявший уже после революции священнический сан и переживший изгнание из России, снова оказался перед знаменитой картиной — к ужасу своему он ощутил в ней недопустимую духовную двусмысленность; но русский мыслитель мог отторгнуть от себя Сикстинскую Мадонну лишь поистине с кровью сердца…
Фигура Беднячка из Ассизи оказывается особенно близкой русской душе: любовь к бедности и к природе и, прежде всего, к простоте души, отсутствие какой-либо изворотливости и властности. Хотя и не почитаемый официально Русской православной церковью, святой Франциск без всякого сомнения является одним из неофициальных заступников русской литературы.
А теперь я чувствую, что мне необходимо перейти от вечных материй к некоторым актуальным проблемам, конкретным и, скорее, прозаическим.
Вы знаете, что сегодня дипломатические отношения между Московским патриархатом и Ватиканом несколько натянуты. Слава Богу, религиозная жизнь церкви не сводится к политике ее руководства. На более глубоком уровне религиозной жизни можно наблюдать весьма отличные тенденции, многие из которых открывают дорогу надежде.
Я живейшим образом надеюсь, что политическим мотивам некоторых откровенно антикатолических поступков, которые, увы, в настоящий момент почти что обычны в публичном поведении иерархии Русской православной церкви, не суждено долгого века, и готов работать (и молиться) на благо улучшения настоящего положения дел. Но есть проблема, имеющая гораздо более общее значение для нашего глобализованного мира: я имею в виду трудности, спровоцированные некоторыми рефлексами быстрого перевоспитания человечества в либеральном духе в сознании тех, кто остался позади, и кому еще предстоит подвергнуться такому перевоспитанию.
Вы знаете, что такие кодовые слова современности, как «либеральный» и «либерализм» в приложении к системе ценностей приобретают очень различные значения. Я лично склонен считать, что право именоваться либералом зависит от отношения к собственным убеждениям, то есть от обязанности быть всецело верным своим «ценностям», но в то же самое время решительно не признавать навязывание этих «ценностей» другим с помощью того или иного вида физического или психологического насилия. Убеждения складываются совсем не обязательно из либеральных ценностей; человек с твердыми религиозными и нравственными принципами должен учиться уважать принципы других людей, не впадая при этом в релятивизм. Но положение коренным образом меняется, если так называемые «либеральные ценности» отстаивают как единственно приемлемые и стремятся предпочесть их любым другим.