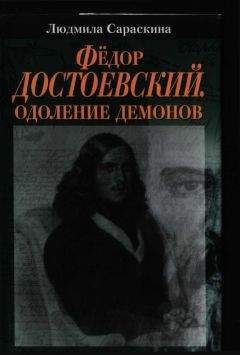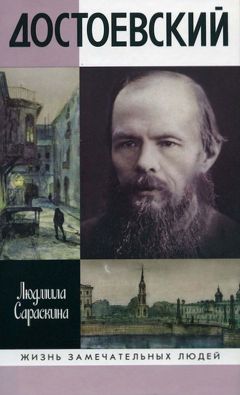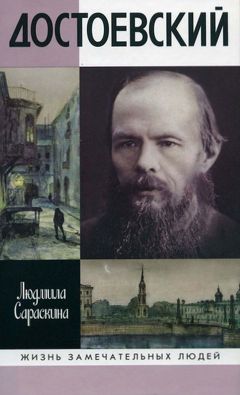Красавица, отдавшаяся ему (за границей), делает теперь вид, что его презирает. Несмотря на все его страдания и вопросы, он, не любя её, все‑таки находит тайное и чрезвычайное наслаждение выжидать, пока она утомится и придет к нему сама, чтоб тогда иметь удовольствие отказать ей».
В те же августовские дни и недели Достоевский написал несколько писем своим тогда немногочисленным корреспондентам.
Прежде всего следовало объясниться с В. В. Кашпиревым, редактором «Зари», где только что был напечатан «Вечный муж» и куда была обещана новая вещь. 27 августа из Дрездена в Петербург ушло первое извинение.
«Дней 10 назад я сознал положительно слабую точку всего написанного. Теперь я решил окончательно: всё написанное уничтожить… Таким образом, я принужден начать работу почти целого года вновь сначала и, стало быть, ни в каком случае не могу поспеть с обещанным романом в «Зарю» к началу года».
Случившееся Достоевский называл несчастьем, которого не мог предвидеть, и обещал возвратить в редакцию «Зари» взятые в счет будущего гонорара девятьсот рублей. Через два дня он написал огромное, в треть печатного листа, письмо в Москву, своей любимой племяннице и другу Сонечке Ивановой. С ней, двадцатилетней конфиденткой и действительно доверенным лицом, имело смысл говорить начистоту. «Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать… Две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидал, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа».
Каков был этот «капитальный недостаток» и что именно автор «увидал разом», он не сообщил даже дорогому другу Сонечке.
Однако еще в середине августа, 16–го или 17–го числа, нарисовав на левом поле рабочей тетради несколько готических окон, Достоевский предельно прояснил себе суть дела:
«NB. Всё заключается в характере Ставрогина. Ставрогин всё».
К первым числам октября «капитальный недостаток» был в основном устранен; роман сдвинулся с мертвой точки и уже имел начало. Требовалось, разумеется, уведомить обо всем случившемся заказчика — работодателя, редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова: ему и было адресовано признание о замене ранее обозначенного героя другим главным лицом романа. «Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его».
IIПризнание было по меньшей мере странным. Забраковать готовых пятнадцать листов текста, жестоко опаздывая к сроку в один журнал и рискуя потерять уже полученный (и прожитый!) аванс из журнала другого, — ради чего и ради кого? Ради холодного фата, который находил чрезвычайное наслаждение выжидать, пока увлеченная им женщина не выдержит и первая придет к нему, чтобы иметь изысканное удовольствие ей отказать? Ради утонченно обольстительного повесы, попробовавшего большой разврат? Мучиться над черновиками почти год, чтобы такого героя поставить в центр романа, на который возлагались последние надежды? И это после Раскольникова и Мышкина!
«Я… слишком давно уже хочу изобразить его… Я из сердца взял его».
Что же в таком случае значило — взять из сердца? Извлечь из тайников памяти свои сокровенные переживания, создать героя по своему образу и подобию, передав ему тайное знание о самом себе? Чем пленяла писателя его новая фантазия (слово «пленил» стояло в письме к литературному критику и близкому другу H. H. Страхову, которое Достоевский отправил в Петербург на следующий день после корреспонденции к Каткову)?
Уже три года Достоевский вынужденно жил за границей, считая себя едва ли не ссыльным. Вернуться домой почти наверняка значило бы угодить сразу по приезде в долговое отделение петербургской тюрьмы. «Ведь я и выехал потому, что Печаткин[3] подал ко взысканию, об чем я услышал заране. Каково бы мне тогда, только что женившись, засесть в тюрьму?» — писал он в марте 1870 года своему другу А. Н. Майкову. За три заграничных года Достоевский сменил восемьнадцать европейских городов, то останавливаясь в дешевых гостиницах, то поселяясь в скромных меблированных комнатах: для того чтобы писать и отрабатывать долги, необходимо было иметь хотя бы временное подобие дома и рабочего кабинета. Необходимы были, кстати сказать, не только уединенное бытие (чего за границей у него было предостаточно), но и своя среда, свой хотя бы небольшой круг общения, то есть тот «калейдоскоп жизни», о котором ему писал Майков и которого Достоевский здесь был полностью лишен.
Никаких красавиц, которые бы тайно вожделели к нему, но делали вид, что презирают, в той точке времени и пространства, где он находился, сочиняя сюжет для нового героя, не было и в помине. Весь 1870 год он провел почти безвыездно в Дрездене, избрав для проживания этот уже знакомый город только ввиду его относительной дешевизны: Анне Григорьевне предстояло родить во второй раз.
Ему было не до отважных красавиц. Впервые пошав счастье отцовства в возрасте уже зрелом, он не успел натешиться родным маленьким существом — в мае 1868 года трехмесячная Соня в одночасье скончалась. Достоевский, нежнейший отец, сам завертывавший после купания свою Соню в пикейное одеяльце, бросавший свои занятия, спеша к девочке на голосок, рыдал, как женщина, у гроба дочери. «Такого бурного отчаяния я никогда более не видала… Мы… вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали»[4].
Князю — новому герою нового романа, согласно программной записи 16 августа, предстояло решать гамлетовский вопрос: прожить или истребить себя. Достоевскому, сочинявшему фантастический сюжет о Князе и Красавице, нужно было постараться выжить, превозмогая хроническое безденежье и опасное нездоровье.
Уже упомянутая тетрадка в коричневом переплете, помимо планов и рисунков, содержала и другие страницы. Достоевский сам дал им название: «ПРИПАДКИ». Ни готических окон, ни водопадов, ни проб пера здесь, понятно, не было. «NB) Сравнительно с прежними припадками (за все годы и за всё время), этот, отмеченный теперь ряд припадков с 3–го августа, — представляет собою еще небывалое до сих пор, с самого начала болезни, учащение припадков; как будто болезнь вступает в новый злокачественный фазис».
«NB.(Вообще следствие припадков, то есть нервность, короткость памяти, усиленное и туманное, как бы созерцательное состояние — продолжаются теперь дольше, чем в прежние годы. Прежде проходило в три дня, а теперь разве в шесть дней. Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный, кровавый оттенок (не цвет) на всем. Заниматься в эти дни почти невозможно».
Совершенно нельзя было предвидеть заранее, когда и где произойдет припадок. Хорошо, если это случалось в постели и во сне; тогда, проснувшись, он догадывался, что припадок был: мучительно давило в груди, болела и долго оставалась тяжелой голова, тоской сжимало сердце. Но приступ падучей мог сделаться и наяву — и он падал в том месте, где его заставали судороги, разбивая лоб или затылок, рискуя когда‑нибудь стукнуться насмерть виском об угол. Однажды (это было в мае 1870–го), когда из Дрездена Достоевский поехал в Гомбург играть в рулетку, он упал в комнате отеля; очнувшись же, «довольно долгое время был не в полном уме», ходил по всему отелю и говорил с его хозяином и постояльцами о своей болезни. Лицо синело, он подолгу ничего не помнил и не мог правильно говорить, нервно смеялся и только спустя несколько дней записывал в тетрадь, что был как бы не в своем уме. В один из подобных дней, когда спустя неделю после припадка очистилась голова, на чистой странице все той же тетради, забыв, видимо, нарисовать что‑нибудь готическое, он записал:
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЫСЛЬ. ИМЕТЬ В ВИДУ.
Идея романа. 16/28 февраля 70.
Романист (писатель). В старости, а главное от припадков, впал в отупение способностей и затем в нищету. Сознавая свои недостатки, предпочитает перестать писать и принимает на бедность. Жена и дочь. Нею жизнь писал на заказ. Теперь уже он не считает себя равным своему прежнему обществу, а в обязанностях перед ними…»