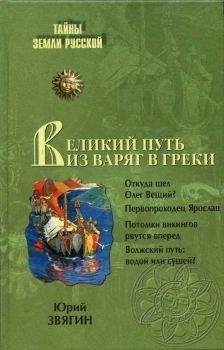И все же Киево-Новгородской Руси, а затем России было труднее других. Достаточно взглянуть на карту: расположенная не на Европейском субконтиненте, а к северу и востоку от него, на материке, без естественных границ, раскрытая в сторону необозримых северных лесов и азиатских степей, Русь с самого начала своего существования была бесформенной страной, занимавшей огромную необжитую территорию с немногочисленным населением. Ей никогда не суждено было испытать ощущение европейской субконтинентальной тесноты, скученности, перенаселенности, которая впоследствии оказалась благословенной для Западной Европы, заставив ее перейти от экстенсивного хозяйствования к интенсивному. Необыкновенно суровые по сравнению со всей остальной Европой климатические условия, скудость почв на севере и постоянные набеги степных кочевников на юге — уже этого, без ордынского ига, было вполне достаточно, чтобы создать серьезные преграды на пути развития личностного начала и других основ европейской цивилизации[15]. Вследствие вышеупомянутого формирование на Руси вотчинного государства неевропейского типа началось задолго до татаро-монгольского нашествия[16].
Непросто обстоят дела и с Византией — главным источником европейской образованности на Руси. С одной стороны, на протяжении раннего средневековья, вплоть до латинского завоевания 1204 года, Византия была наиболее развитой в культурном отношении страной Средиземноморского бассейна, веками вызывавшей зависть европейского Запада[17]. Достаточно вспомнить о том, что византийские греки по праву называли себя ромеями, ибо история их державы была прямым продолжением истории Древнего Рима, а античное наследие на Востоке не подверглось ни материальному уничтожению, ни забвению, хотя, конечно, средневековая, христианская модель культуры во многом проявила себя как антитезис по отношению к гармоническому космизму древних эллинов[18]. Однако, с другой стороны, начиная уже с трагического VII века, столетия многочисленных внутренних распрей и арабских завоеваний, Византия переживала постепенно углублявшийся кризис, который привел к ее культурному упадку. К тому же в византийской политической и духовной культуре все более давали о себе знать восточные, главным образом персидские и арабские, влияния: органичными элементами жизни становились такие вещи, как мистическая созерцательность, фаталистическая пассивность или сокрытие неудобной правды за пышными фасадами и мастерски разыгранным театрализованным действом[19]. Именно такую Византию увидели русские люди в X веке. Приближая их к уходящей, раннесредневековой Европе, наследие империи ромеев в то же самое время затрудняло их поиск Европы грядущей.
Двойственную роль играло и православие — важнейший идеологический комплекс, унаследованный Русью из Второго Рима[20]. Оно также самым активным образом приобщало обитателей русских земель к средиземноморскому материальному и духовному наследию — к архитектурным постройкам, в облике которых скрывались детали, столь близкие римскому и эллинскому миру, к иконописи, возникшей на Синае, но помнившей еще фаюмские портреты, к церковному пению, прототипом которого были античные каноны и гимны, и наконец, к философии стоиков и неоплатоников, чью мудрость вобрало в себя восточное христианство. Более того, стремившись сохранить благодатный источник веры в его первозданном виде и как можно меньше вторгаться в дела мира сего, православие в чисто религиозном отношении обладало рядом достоинств по сравнению с католичеством, которому не всегда удавалось уберечься от формализма, схоластики, примата догматов веры и канонического права над Божественным Откровением и даже от прямого политического действия, что вряд ли соответствовало духу и букве Священного Писания.
Однако вне области чистой религии, в широком социально-историческом и культурном контексте те же самые достоинства оборачивались недостатками. В православном мире не существовало творческого конфликта духовной и светской власти, который на Западе неизменно способствовал общественному прогрессу, принуждая к реформам как сильных мира сего, так и саму Церковь. Благотворное воздействие Православной Церкви на общественные процессы было сведено к абсолютному минимуму, а начиная с XIII века в эпоху военной и политической экспансии латинского Запада и мусульманского Востока в деятельности Церкви все более давал о себе знать комплекс осажденной крепости, на несколько веков прервавший творческое развитие восточного христианства и способствовавший росту консервативных и мистико-фаталистических тенденций. Все это обернулось тяжелейшими последствиями для византийской культурной ойкумены. Приведу лишь один яркий пример: последняя значительная религиозно-философская концепция, появившаяся в обреченной на гибель Византии — исихазм, — явилась главной идеологической причиной того, что ни одной из православных стран Европы не суждено было испытать обновляющего веяния Возрождения. В богословских спорах XIV–XV веков исихастам удалось одержать победу над гуманистами[21], идеи которых ассоциировались, увы, с латинской “ересью”, с ее исповедниками, не раз разорявшими и грабившими Константинополь, с коварными замыслами пап и вообще с Западом, отступившим, как казалось, от самого духа христианской веры в тот момент, когда личное достоинство человека было поставлено на небывало высокий пьедестал. Таким образом, православная Русь, ставшая к концу XV столетия духовным и политическим центром поствизантийской ойкумены, явилась восприемницей антигуманистической идеологии, провозглашавшей косность во имя чистоты и нерушимости традиции[22]. Традиции, которая отгораживала наследницу Византии от оживляющего света, который к тому времени шел не с берегов Босфора, а из той части Европы, где восторжествовал Ренессанс[23].
В домонгольские же времена ни размеры страны, ни ее географическое положение, ни природные условия, ни архаичная структура общества и система хозяйствования, ни заимствованные с юга политические и идеологические модели не способствовали формированию на Руси принципов свободной воли, личного достоинства, личной ответственности и инициативы — этих неизменных основ европейского образа жизни. И все же личностное начало укреплялось и совершенствовалось. Свидетельство тому — свод законов “Русская правда” и такие выдающиеся памятники древнерусской письменности, как “Слово о полку Игореве”, “Поучение” Владимира Мономаха или “Моление Даниила Заточника”. По всей вероятности, прав был Г.В.Плеханов, который с позиций “умеренного пессимизма” отмечал, что исторический тип свободного и обладавшего собственностью на землю дружинника (воя) пусть с большим трудом, с большим опозданием по сравнению с соседней Польшей, но все же появился, а следовательно, и на Руси личность прокладывала себе дорогу[24]. Однако дальнейшее развитие личностного начала было трагически прервано после вторжения монголов и установления вотчинных порядков.
Вернемся к судьбам русского европеизма. Если до татарского нашествия и до последовавшей изоляции от Европы он был на Руси естественным идеологическим “фоном”, то в последующие столетия за европейские ценности необходимо стало бороться[25]. Ориентация на Европу (включая сюда и греческую образованность, которая все чаще казалась в Москве подозрительной) означала сознательный выбор оппозиционной модели мышления и поведения. Проевропейское умонастроение в Московской Руси неизбежно становилось европеизмом вопреки — вопреки официальному политическому курсу, вопреки установившимся нравам, вопреки “древлему благочестию”. Русские европейцы воспринимались как своего рода вероотступники, “диссиденты”. Судьбы Нила Сорского, Вассиана Патрикеева и в особенности Максима Грека, долгие годы просидевшего в каменном мешке[26], говорят сами за себя. Заметим, однако, что такого рода европеизм постоянно присутствовал на периферии московского идеологического горизонта, и практически каждый из московских князей, а затем царей, от Ивана III до Петра I, более или менее успешно старался расширить и укрепить связи с Западом, а это означало, что европеизм не только пассивно существовал, но и активно воздействовал на политику[27]. Как метко заметил Плеханов, “выгодная для прогресса русская историческая особенность заключалась в том, что, став Азией и победив Азию (татар), Россия медленно стала поворачиваться в сторону Запада”[28].
Принято считать, что русское средневековье продолжалось вплоть до XVII века. Но уже в XV столетии Москва имела возможность познакомиться с итальянским гуманизмом, и несмотря на все предрассудки и мощное попятное движение, несмотря на ожесточенное сопротивление иерархов Церкви, а накануне петровских реформ также диссидентов-старообрядцев, дух Нового времени постепенно завоевывал в России все новые и новые позиции. Начиная с XVI века, когда Ренессанс восторжествовал в соседних странах Восточной Европы — в Чехии, Венгрии, но прежде всего в Польше, в открытое политическое противоборство с которой вступила Россия, — все западное уже не могло не восприниматься иначе, как эманация личностно-гуманистического духа. Отныне русский “европеизм вопреки” принимает по преимуществу ренессансный характер и становится главной движущей силой модернизации — мучительной перестройки экономических, социальных, культурных и прочих структур, включая и такие “деликатные” области, как общественная и личная психология, бытовое поведение и образ мысли.