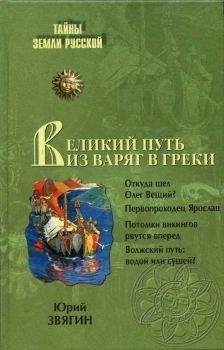Принято считать, что русское средневековье продолжалось вплоть до XVII века. Но уже в XV столетии Москва имела возможность познакомиться с итальянским гуманизмом, и несмотря на все предрассудки и мощное попятное движение, несмотря на ожесточенное сопротивление иерархов Церкви, а накануне петровских реформ также диссидентов-старообрядцев, дух Нового времени постепенно завоевывал в России все новые и новые позиции. Начиная с XVI века, когда Ренессанс восторжествовал в соседних странах Восточной Европы — в Чехии, Венгрии, но прежде всего в Польше, в открытое политическое противоборство с которой вступила Россия, — все западное уже не могло не восприниматься иначе, как эманация личностно-гуманистического духа. Отныне русский “европеизм вопреки” принимает по преимуществу ренессансный характер и становится главной движущей силой модернизации — мучительной перестройки экономических, социальных, культурных и прочих структур, включая и такие “деликатные” области, как общественная и личная психология, бытовое поведение и образ мысли.
Модернизация — сложный комплекс процессов, сопровождающих переход от традиционных патриархальных структур аграрного общества к индустриальному обществу Нового времени. В той или иной форме ее благоденствий и связанных с нею потрясений и невосполнимых потерь суждено на собственном опыте испытать всем странам земного шара[29]. История человечества сложилась таким образом, что в силу целого ряда условий, анализ которых увел бы нас слишком далеко от предмета исследования[30], первыми на путь модернизации стали страны Западной Европы. Неевропейские страны, ныне относимые к Западу, населены преимущественно выходцами из той же Западной Европы: к ним относятся бывшие британские колонии — Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Для этих стран модернизация не обернулась вестернизацией — перестройкой всех экономических, правовых, общественных и даже ментальных структур на западный (то есть западноевропейский) лад. Другое дело — славянские страны, особенно Slavia Orthodoxa, а также Греция и, конечно, страны Азии и Африки[31]. Пережить модернизацию означало для них в той или иной степени переориентировать свою культуру на Запад. Последнее относилось и ко всем странам, входившим в византийское содружество наций: они были частью Европы, но не частью Запада, как, впрочем, и страны Пиренейского полуострова — Испания и Португалия. Единственным же примером успешной модернизации, совершенной благодаря усилиям неевропейцев, является Япония, хотя результаты ее вестернизации выглядят весьма неоднозначно[32].
Вестернизация стала уделом и России. В XVII–XVIII веках происходит достаточно резкая смена цивилизационной и культурной ориентации: спустя два столетия после распада византийской ойкумены русская культура становится периферийной по отношению к Западной Европе — миру во многом неведомому, казавшемуся то экзотическим, то прямо враждебным. Вестернизация сразу же привела к разногласию в рядах интеллигенции, результатом чего стало разделение на новаторов — энтузиастов поренессансной Европы и традиционалистов — блюстителей родного благочестия. При определенных условиях такое психологическое размежевание могло перерасти в серьезное столкновение идеологических позиций[33]. Однако, пожалуй, нигде на свете, кроме России и Японии, не возникало столь сходных по своему характеру группировок, как русские западники и сторонники японского либерально-обновленческого движения, выступавшие под лозунгом “буммеи-каика” (цивилизация и просвещение) и противоположной пары, — я имею в виду японских изоляционистов и русских славянофилов[34]. По-видимому, такое поразительное совпадение программы русских и японских интеллектуалов обоих направлений объясняется тем, что и Япония, и Россия, располагаясь на скрещении различных цивилизационных потоков, представляли из себя пограничные культуры, а тамошние образованные круги обладали высокой степенью национального самосознания, веками подкрепляемого сильной потребностью во внешнеполитическом успехе[35]. Не менее существенно то обстоятельство, что культура обеих стран развивалась в условиях относительной замкнутости. Пограничный характер русской культуры, ее промежуточное положение между Западом и Востоком бросались в глаза как самим русским, так и иностранцам[36] и являлись необходимым следствием из геополитической ситуации России. Поэтому в условиях кризиса традиционной (средневековой, патриархально-иерархической) культуры, который в России приходится на XVII век, в просвещенных кругах появляется группа людей, у которых любое столкновение с Западной Европой порождало горькое сознание собственной отсталости и желание решительным образом порвать с “отеческим законом” и преданиями старины, чтобы стать в один ряд с европейскими странами, чья цивилизация осмыслялась как общечеловеческая. Этих людей я буду в дальнейшем называть русскими европейцами.
* * *
Кто такой русский европеец? Каковы его отличительные черты? На эти, казалось бы, простые вопросы порой даются самые разные, противоречащие друг другу ответы. Владимир Кантор, автор недавно вышедшей в свет замечательной, нужной и полезной книги “Феномен русского европейца”, считает, что европеизм — это “тот реалистический и исторический взгляд на судьбу России и Запада, которому была важнее живая действительность, а не утопические упования на возможность существования где-то некоего идеального мироустройства”[37]. Но такое определение немногое поясняет. Ведь самым трезвым реалистом и совершенным европейцем по типу воспитания был, к примеру, Константин Леонтьев, но энтузиастом западноевропейской цивилизации его никак не назовешь; реалистом был также Василий Розанов, но ни тип его поведения, ни культурные привычки и наклонности, ни убеждения нельзя назвать ни вполне европейскими, ни тем более проевропейскими. Поясняя свою мысль, В.К.Кантор обращается к образу Версилова из романа Достоевского “Подросток” и приходит к весьма любопытным выводам:
В романе “Подросток” нарисован потрясающий образ Версилова, русского европейца, как его понимал писатель, а именно: человека, уверенного, что он уловил суть европейской культуры, европейского духа в его целостности, в его сути, не как частную идею входящих в Европу стран (не как французскую, немецкую или британскую идею), а как идею всеевропейскую, объединяющую всю Европу. В этой претензии на всеобъемлемость, на понимание центра Европы — и величие этого русского европейца, этого гражданина мира (по Диогену и Петрарке), и его слабость, некая как бы условность, фантазм его европеизма, ибо подлинный европеизм произрастает изнутри своей культуры — но в процессе преодоления и переосмысления и переосмысления, одухотворения и преосуществления ее почвенных основ. Такими были основатели великих европейских культур — Данте и Сервантес, Рабле и Шекспир, Гёте и Пушкин. Не сумевший преодолеть свою почву, а потому беспочвенный русский европеец был типичен для барско-интеллигентской массы, не ощутившей еще ценности своего личного бытия — основы европейского мирочувствия[38].
Как верно, как превосходно замечено: “подлинный европеизм произрастает изнутри своей культуры”! Но что такое “барско-интеллигентская масса”? Неужели Герцен, послуживший одним из прототипов образа Версилова (для точности поясню: главным образом как автор книги “С того берега”[39]), был представителем этой “массы”? Неужели же он не ощущал “ценности своего личного бытия”? Ведь каждый, кто хоть однажды взял в руки “Былое и думы” и прочитал хотя бы одну-единственную главу этой замечательной истории личности, знает, что это не так. Зачем же верить на слово очень умному, но куда как утопичному (разве почвенничество не было утопией?) и куда как тенденциозному Достоевскому, который имел полное право быть тенденциозным и вдобавок очень неточным, поскольку писал не культурологическое исследование, а полифонический роман, где диалогическая правда существует на равных правах с диалогическим домыслом? Но реальный-то, живой Герцен — неужели же он так-таки и не был русским европейцем?
Увы, автор книги о русских европейцах к таковым его не причисляет. Так же как и других романтиков и утопистов (как “правых”, так и “левых”), для которых западноевропейская бытовая, книжная и духовная культура была естественной “средой обитания”, — П.Я.Чаадаева, Ф.И.Тютчева, М.А.Бакунина, П.Л.Лаврова. С точки зрения В.К.Кантора, и вымышленный Версилов, и его жизненный прототип, и все другие упомянутые лица — не русские европейцы, а русские западники или русские скитальцы-псевдоевропейцы. Понятию “западники” исследователь придает резко отрицательное значение и выдвигает против них серьезное обвинение: по его мнению, эта “беспочвенная” “барско-интеллигентская масса”, сакрализируя Европу воображаемую и разочаровавшись в Европе реальной, подготовила почву для торжества в России тоталитарных идей[40].