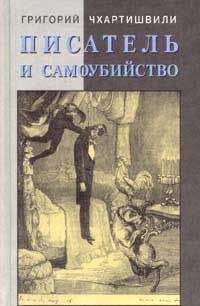[Нет, эти резоны нас, сегодняшних, не удовлетворят — слишком уж они отдают казуистикой. Все предопределено провидением, от нас ничего не зависит? А свобода выбора, а ответственность, подразумеваемая этой свободой? Ведь не провидение же решает, пора или не пора электрику Петрову совать голову в петлю?]
Из всех теологических построений Юма искренностью (а значит, и весомостью), пожалуй, обладает только одно:
«…Я благодарю провидение как за те блага, которые уже вкусил, так и за предоставленную мне власть избежать грозящих мне зол».
Важный вклад в реабилитацию суицида — не моральную, а чисто юридическую — внес Шопенгауэр, который осуждал самоубийство с этической точки зрения (логические обоснования этого философа мы рассмотрим в следующей главе), однако столь же решительно выступал против уголовного преследования самоубийц: «…Пора поставить вопрос: по какому праву, без указания какого-либо библейского авторитета и сколько-нибудь самостоятельного философского аргумента, клеймят названием преступления поступок, который совершили многие уважаемые и любимые нами люди, и лишают честного погребения тех, кто добровольно уходит из мира». Именно Шопенгауэру принадлежит основополагающий принцип трактовки человеческой личности — принцип, сам по себе являющийся сильнейшим аргументом в пользу неограниченной свободы поступка:
«Каждый ни на что в мире не имеет столь неоспоримого права, как на собственную особу и жизнь».
Страстная и сумбурная защита суицида, принадлежащая Фридриху Ницше — пример того, что от избытка свободы, как и от избытка кислорода, может закружиться голова (уничижительный комментарий Вл. Соловьева: «Как известно, этот несчастный писатель, пройдя через манию величия, впал в полное слабоумие»). Собственно говоря, гениального базельского профессора вообще зря причисляют к философам — он, конечно же, никакой не философ, а поэт и даже беллетрист, только из тех мастеров художественной прозы, кто не нуждается в вымышленном сюжете — самая увлекательная фабула раскручивается в их собственном мозгу, так что и выдумывать ничего не надо. Ницше с одинаковым жаром излагает суждения о том, в чем он гениален (таковы, например, его мысли о художнике и искусстве), и о том, в чем он мало что смыслит (например, его обобщения о женщинах), но в вопросе о человеческой гордости ему поистине нет равных.
«Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу» (Ф. Ницше)
И та же мысль в виде поэтизированной метафоры:
«…Или я погасну, как свеча, которую задувает не ветер, но которая сама устает от себя и пресыщается собою, — выгоревшая свеча? Или, наконец: задую ли я сам себя, чтобы не выгореть?» (Ф. Ницше)
Этот человек, гордому разуму которого суждено было угаснуть еще при жизни, буквально влюблен в идею самоубийства. Если б не психическая болезнь, он, больше всего боявшийся опоздать уйти, наверняка убил бы себя — но Бог (судьба, провидение, слепой случай, логика развития) рассудил иначе. Идея добровольного ухода настолько величественна, считал Ницше, что самоубийцы, лишающие себя жизни из недостойных соображений, дискредитируют самоубийство. Это либо «ужасные, что носят в себе хищного зверя», либо «чахоточные душой». (Интересно, что той же точки зрения придерживается бесконечно далекий от Ницше Н. Бердяев, писавший: «Самоубийство может быть от совершенного бессилия и от избытка сил».) У Ницше был несомненный избыток мыслительной энергии, его блестящие парадоксы и яркие образы ослепляют и завораживают, но ненадолго — для агностика они слишком темпераментны и недостаточно основательны. Сухой остаток скуден:
«Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи».
В постницшеанский период пафос апологетов самоубийства поблек, лишенный оттенка новизны и революционности: во-первых, все основное уже было сказано, а во-вторых, тема утратила публицистичность — исчезла потребность доказывать, что суицид «не до такой степени грех, чтобы относиться к нему именно так, а не иначе». Поэтому попробую суммировать те доводы в пользу самоубийства, которые кажутся мне наиболее основательными. Еще раз оговорюсь, что вся эта аргументация имеет смысл лишь при допущении существования Бога — в традиционно христианском смысле.
Ключевое слово здесь «достоинство», без которого, надо полагать, большинству из нас жизнь была бы не мила. Привлекательность права на свободную смерть прежде всего заключается в том, что она позволяет человеку, достойно прожившему жизнь, так же достойно из нее уйти. Разве не заманчиво — уходить осмысленно и добровольно, на своих условиях, выбрав смерть «свободную и сознательную, без случая и неожиданности» (Ницше)? Такое самоубийство — попытка вести с Создателем разговор на равных: мол, Ты дал мне жизнь, над этим решением я был не властен, но позволь уж мне хотя бы решить, как и когда я уйду. Ты пригласил меня в Свой мир. Спасибо. Но я не хочу уподобляться гостю, которому указывают на дверь, потому что он засиделся или скверно себя вел. Я уйду сам. Спасибо за все хорошее и плохое, до свидания.
Что кощунственного в такой позиции? Чем оскорбительна она для Творца? Разве не Он Сам наделил человека спасительным чувством собственного достоинства, без которого жизнь людских особей была бы сплошным свинством (она и есть свинство там, где ЧСД не в чести)? Так зачем же гневаться на то, что человек доводит ЧСД, главный итог многотысячелетней эволюции, до своего логического завершения? Не жалок ли человек, которого удерживает в жизни одно лишь суеверие? «…Хотя только смерть в силах навсегда положить конец его злополучию, он [суеверный человек] не решается прибегнуть к данному пристанищу, но продолжает свое жалкое существование из-за пустого страха перед тем, как бы не оскорбить своего творца, воспользовавшись властью, которую это благодетельное существо даровало ему» (Д. Юм).
А ведь в этой жизни человеку очень нелегко сохранить уважение к себе и жить достойно. Мир изобилует испытаниями, которые без конца тычут тебя носом в навозную кучу, напоминая гордецу: ты — ничтожество, ты — жалкий аппарат из органики, ты беспомощен, ты достоин презрения, смотри, как ты боишься боли и унижения, боишься лишиться тех, кого любишь, смотри, как легко тебя сломать, смотри, как ты незащищен от малейшей прихоти судьбы.
Есть эпохи и страны, в которых сохранить ЧСД — настоящий подвиг. Но если человеку это все-таки удалось, почему нужно лишать его права достойно завершить свой трудный путь, не превратившись напоследок в некое непохожее на себя существо, оскотинившееся от невыносимой боли или впавшее в старческое слабоумие?
Это вовсе не бунтарство против Бога. Это попытка превратить монолог своего сознания в диалог с Ним — ни в коем случае не в перебранку, в беседу.
«Возблагодарим же Бога за то, что никого нельзя заставить жить». (Сенека)
Итак, все доводы рассудка вроде бы на стороне свободного выбора между жизнью и смертью — даже для человека верующего, но верующего не слепо, а разумом.
Или не все?
Известно ли вам, что вечная слава
ожидает тех, кто, получив от Бога
в долг свою жизнь, отдал ее обратно
в соответствии с законами природы
и тем самым сделал Богу приятное?…
Душам же тех, чьи руки безумно
учинили над собой насилие, уготованы
самые темные закоулки Аида.
Иосиф Флавий
Доводы, доказывающие недопустимость добровольного ухода из жизни, делятся на две категории: чисто или по преимуществу рациональные (то есть адресованные логике) и чисто или по преимуществу религиозные (то есть адресованные чувству). Первые соперничают с апологией самоубийства на равных, оперируя тем же инструментарием и, в общем, придерживаясь тех же методов дискуссии. Вторые склонны игнорировать возражения противной стороны и запутывать полемику недозволенными приемами, в том числе запугиванием и бездоказательными утверждениями. Не скрою, что первая из этих методик мне симпатичнее.
Во времена античности она была единственно возможной или, во всяком случае, задавала тон. Позднейшие оппоненты суицида, в том числе и отцы церкви, строили свою систему доказательств, используя наследие Платона и Аристотеля. Платон поставил перед собой очень сложную задачу: не отрекаясь от любви и почтения к своему учителю Сократу, показать, что самоубийство, совершенное этим идеальным человеком, — не выход и не способ. Для этого автору «Федона» пришлось вложить в уста своего героя слова, из которых следует, что поступок Сократа — не правило, а редкое исключение, которое может быть санкционировано лишь высшей силой (та самая аргументация, которую впоследствии повторит блаженный Августин). Обращаясь к своему ученику фиванцу Кебету, Сократ говорит: