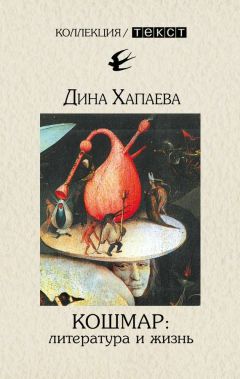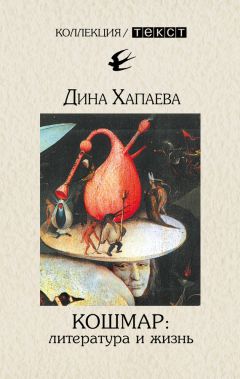Тем более что Лавкрафта никак нельзя обвинить в обскурантизме. Напротив, отсылки к физическим законам постоянно звучат на страницах его рассказов:
Во-первых, меня ждала еще одна тревожная ночь, с мучительными, навязчивыми видениями, растолковать которые я не умел, потому что прежде видел сны, только когда болел. Мне грезились мои предки, и чаще всего — длиннобородый старец в конусообразной черной шляпе. (…) В моем сне прадед перемещался как-то странно, будто летал. Он проходил сквозь стены, шел по воздуху, не касаясь земли; его тень мелькала в кроне деревьев. И повсюду его сопровождал громадный черный кот, с той же легкостью, что и хозяин, нарушавший законы пространства и времени. Сны никак не были связаны между собой, и даже внутри каждого из них отсутствовала цельность, — просто бесконечная цепь ярких, галлюцинаторных видений, хотя и с непременным присутствием прадеда, кота и фамильного особняка. Эти сны перекликались с картинами, виденными мной прошлой ночью, демонстрируя все те же пространственно-временные фокусы, правда, с меньшей отчетливостью отдельных видений [204].
В этом готическом кошмаре мы сталкиваемся с упоминанием о великих физических открытиях, делавшимися ровно в то время, когда Лавкрафт писал свои «старшие тексты». Очевидно, физические открытия начала века его глубоко потрясли. Идея о том, что пространственно-временные отношения можно представить иными, чем привычные нам, причем не только в кошмаре, но и в физическом мире, так ошеломила его, что след от этого потрясения остался во всем его творчестве. По словам его биографа, Уэльбека, Лавкрафт был глубоко поражен теоремой Геделя о неполноте формальной теории, а «…уравнения квантовой механики он сразу объявил „нечестивыми и парадоксальными“». Возможно, впечатление от новых физических законов не было бы столь сильным, если бы оно упало на более подготовленную почву. Но вероятно, сведения о них подоспели в тот момент, когда собственное перо Лавкрафта еще недостаточно окрепло, чтобы суметь передать, в чем, собственно, заключается переживание особого времени кошмара, которое представлялось писателю, как и каждому, кто пытался осмыслить кошмар, его важнейшей особенностью. Собственный литературный талант Лавкрафта еще не достаточно возмужал, когда «человек с восточным разрезом глаз заявил, что пространство и время относительно» [205].
Суггестивная терминология Эйнштейна похитила у Лавкарфта его собственный язык для описания времени кошмара и превратилась в повторяющееся заклинание, без которого он, как и писатели наших дней, просто не мог обойтись в своем повествовании. Так он попал в плен чужой идеи и чужого слова, из оков которых ему не удалось вырваться.
Упоминаниями об Эйнштейне или прямыми парафразами его знаменитых высказываний полны страницы Лавкрафта: «Мы не вели счет времени: оно стало для нас самой незначительной из иллюзий». В его текстах мы постоянно сталкиваемся с рассуждениями о «пространственно-временных аномалиях» [206]. Но как ни старался Лавкрафт — а старался он в этом направлении много, — ему практически никогда не удавалось заставить читателя прочувствовать особенности переживания времени в кошмаре:
Напряженное бдение чрезвычайно утомляло меня. Невероятная цепочка впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я слышал бой часов — не наших, наши были без боя, и мрачная фантазия избрала этот бой исходной точкой для бесцельных размышлений; часы — время — пространство — бесконечность… [207]
Новая физика превращается для него в неотъемлемую черту кошмара. Надо отдать должное Лавкрафту: он был одним из первых, кто осознал эту взаимосвязь, кто оценил, что новые физические открытия подрывают основы здравого смысла, воспитанного на доступной обыденному сознанию классической механике [208]. Можно с большой долей уверенности утверждать, что для Лавкрафта неотличимость восприятия кошмара от физических законов стала важным доказательством материальной реальности кошмара как переживания. Влияние теории Эйнштейна особенно бросается в глаза благодаря тому, что для Лавкрафта время тоже превратилось в «пространство-время», в неотделимую от пространства «координату» [209]:
А вот замучившие меня в ту ночь сны толкованию не поддавались. Обычно наутро я забывал ночные видения, но тут они оказались настолько ярки и фантасмагоричны, что живо держались в памяти. В них я играл роль пассивного свидетеля бесконечных пространственно-временных смещений и череды обманчивых ощущений. (…) Краткие видения молниеносно сменяли друг друга, каждое не имело ни начала ни конца, а мир, в который меня уносило, был совершенно фантастичен и чужероден, как если бы находился в другом, неизвестном мне измерении [210].
Здесь уместно вспомнить о Пелевине, который, в отличие от Лавкрафта, не способного обойтись в описании своих кошмаров без упоминаний о «смещенном времени и противоестественных законах» [211], практически никогда не пользуется физическим терминам и метафорами, не упоминает о физических законах, да и вовсе не пускается в рассуждения о времени кошмара. Но ему куда лучше, чем Лавкрафту, удается передать особенности его темпоральности.
Нам следует запомнить, ибо это пригодится в наших размышлениях о Готической эстетике, что впечатление от великих физических открытий распространилось для Лавкрафта на мораль, чтобы стать метафорой человеческих поступков. На что, как всегда точно, указывает Уэльбек:
И человеческие поступки столь же лишены смысла,
как свободное движение элементарных частиц [212].
Конечно, Лавкрафт не мог и не стремился избежать гипнотики кошмара в своем творчестве: напротив, его тексты следуют всеми тропами, которыми его влечет кошмар. Круг — непременная фигура, которой он отдает должное в композиции своих рассказов. Ей подчиняются и его герои, кружа по лабиринтам или блуждая по загадочным зданиям.
Забавно, что и Уэльбек, хотя он вовсе не рассматривает творчество Лавкрафта исключительно сквозь призму кошмара, описывая созданный Лавкрафтом мир, не смог избежать завораживающей силы круга. Творчество Лавкрафта, говорит Уэльбек, стремясь сказать самое главное о любимом писателе, есть «последовательность концентрических кругов, расходящихся от коловращающегося средоточия абсолютного ужаса и восторга» [213].
По поводу сна, этой скверной авантюры, можно сказать лишь одно: люди, ложась спать, каждый день проявляют смелость, которую трудно объяснить иначе, как непониманием подстерегающей их опасности.
Шарль Бодлер (эпиграф Г.Ф. Лавкрафта к его рассказу «Гипнос»)
Задача, которую поставил перед собой Лавкрафт, можно сформулировать, перефразируя известную заповедь отца исторического позитивизма Леопольда фон Ранке о задачах научной истории: «Передать кошмар таким, каков он на самом деле» [214]. Ужас, создаваемый Лавкрафтом, строго материален, что очевидно для любого, кто знаком с его творчеством, ибо Лавкрафт пишет ради утверждения кошмара как единственной и главной объективной реальности [215].
Кошмар существует независимо от нашего редкого ночного проникновения в него, от нашей способности иногда, в исключительных случаях, соприкоснуться с ним под воздействием сна — так можно резюмировать новый жанр, которому, с точки зрения Уэльбека, пытались следовать ученики Лавкрафта:
В сущности, мало кто из писателей так же систематически использовал свои сновидения, как он; он разбирает полученный материал, он его рассматривает; порой с воодушевлением, он записывает историю не переводя дух, даже окончательно не проснувшись (так было в случае с Nyarlathothep’ом); порой он сохраняет только некоторые элементы, чтобы ввести их в новую структуру; но, как бы там оно ни было, он весьма всерьез рассматривает сны [216].
Именно поэтому Лавкрафт выбирает стиль письма, который не может не вызвать недоумения умудренных читателей фантастики: «Если есть какой-то тон, которого мы не ждали встретить в фантастическом рассказе, то это именно тон патологоанатомического отчета» [217]. Действительно, словно увлеченный своим делом патологоанатом, Лавкрафт аккуратно препарирует кошмар, отделяет своим словом его разные пласты, рассекает его ткани, рассматривает его внутренности. Его подход к кошмару — это подход естествоиспытателя. В лаборатории своей прозы он выявляет важнейшие компоненты кошмара, делает их прозрачные срезы и вновь соединяет их, чтобы снова вдохнуть в них жизнь и синтезировать кошмар невиданной красоты и силы. Чтобы утвердить его несомненную реальность.