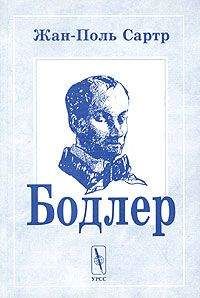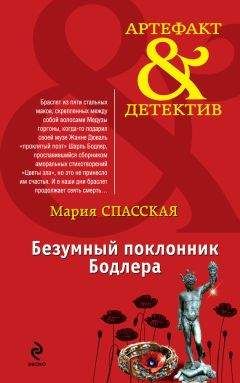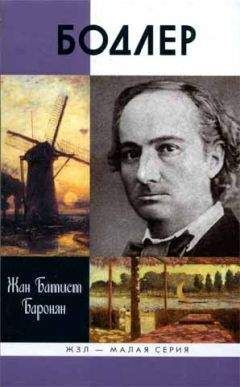Общаясь с близкими, Бодлер обвиняет себя в реальных грехах, потому что умеет опровергать их упреки; когда же ему приходится сталкиваться с чужими людьми, чьи реакции ему неведомы, он обвиняет себя в несуществующих грехах, ибо знает, что неповинен в тех поступках, в которых его укоряют. Его одежда играет ту же роль для глаз, что и ложь для ушей; это, так сказать, громогласный, трубный грех, который окутывает его и делает невидимым. И, однако, тут же спешит склониться над собственным образом, созданным в сознании других, и этот образ его завораживает. Что ни говори, а этот извращенный и эксцентричный денди и есть он сам, Бодлер. Уже тот факт, что он ощущает множество обращенных на него взглядов, заставляет его солидаризироваться с собственными лживыми выдумками. Он видит, он узнает себя в глазах других и, погруженный в атмосферу ирреальности, наслаждается своим воображаемым портретом. Вот почему лекарство оказывается еще хуже, чем болезнь: Бодлер боится, что его увидят, и потому лезет всем на глаза. Удивляясь, что временами он слишком походит на женщину, многие пытаются увидеть в этом проявления гомосексуальности, которой на деле Бодлер никогда не обнаруживал. Следует, однако, заметить, что «женственность» — это не продукт пола, а продукт общественного положения. Важнейшей характеристикой женщины, причем женщины буржуазной, является ее глубокая зависимость от мнения. Живя в праздности, на чужом содержании, она утверждает себя тем, что нравится; собственно, для этого она и наряжается; одежда, румяна призваны отчасти афишировать, а отчасти, наоборот, скрывать ее тело. Если кому-либо из мужчин случится жить в подобных условиях, он с неизбежностью приобретет черты женственности. Бодлер — прекрасное тому подтверждение: он не зарабатывает себе на хлеб трудом, а это значит, что деньги, на которые он живет, не являются вознаграждением за какой-либо объективно оцениваемый социальный труд, но зависят главным образом от суждений, которые о нем складываются. Между тем его изначальный выбор самого себя как раз предполагает постоянное и повышенное внимание к чужому мнению. Он знает, что его видят, ощущает неотрывно направленные на него взгляды; он хочет нравиться и в то же время не нравиться; любой его жест рассчитан «на публику». Это задевает его гордость, но зато удовлетворяет мазохистские инстинкты. Когда он, разряженный, словно кукла, выходит из дому, это для него — целый церемониал: нужно то и дело поправлять костюм, нужно скакать через лужи, причем, поскольку все эти движения выглядят довольно смешно, следует позаботиться и о том, чтобы придать им некоторую элегантность; между тем чужой взгляд уже подстерегает его и вот-вот поглотит; и пока Бодлер совершает все это множество мелких и бессильных мановений, из которых складывается священный ритуал, он ощущает, как взгляд другого проникает в него и им овладевает. Однако пытаясь защититься и утвердиться, он делает это не за счет представительного и мужественного вида или внешних знаков своей социальной принадлежности, а за счет нарядов и элегантных манер: так как же он может не быть женщиной и священником одновременно, женщиной в роли священника? Не он ли лучше других — в себе самом — почувствовал эту связь священства и женственности, когда написал в «Фейерверках»: «О женственности церкви как истоке ее всемогущества»? Тем не менее женственный мужчина вовсе не обязательно гомосексуалист. Иногда Бодлер испытывает наслаждение, чувствуя себя пассивным объектом под чужими взглядами, хотя и пытается компенсировать эту пассивность композиционной продуманностью своих жестов и туалета; возможно, время от времени она преображалась в его грезах в другую пассивность — в пассивность собственного тела, ставшего объектом мужского желания; отсюда, скорее всего, и проистекают его постоянные и лицемерные самообвинения в педерастии. Однако даже если ему и случалось воображать, как кто-то берет его силой, то лишь для того, чтобы удовлетворить свою извращенность и тот мазохизм, природа которого нам уже известна. Дендистский миф Бодлера призван закамуфлировать вовсе не гомосексуальность, а эксгибиционизм.
Ведь бодлеровский дендизм с его безжалостным требованием стерильности — это миф, культивируемая изо дня в день греза, позволяющая совершать ряд символических действий, хотя Бодлеру и известно, что это всего-навсего греза. По его собственным словам, чтобы быть денди, надо вырасти в роскоши, обладать значительным состоянием и располагать досугом. Однако ни полученное Бодлером воспитание, ни заполненный трудами досуг не отвечают этим требованиям. Бодлер, несомненно, деклассированная личность и страдает от этого; он пал, окунувшись в богему, он — «непутевый» сын г-жи Посланницы. Вместе с тем эта реальная деклассированность отнюдь не совпадает с тем символическим разрывом, который осуществляет денди. Бодлер не возвысился над буржуазией, а очутился ниже ее, оказался у нее на содержании подобно тому, как писатель XVIII в. находился на содержании у знати. Дендизм Бодлера — это компенсаторное сновидение: униженное положение не столько уязвляет его гордость, что он пытается придать своей деклассированности иной смысл — смысл умышленного размежевания. Впрочем, в глубине души он не обманывается на свой счет: замечая, что Гис чересчур уж страстно мечтает стать денди, он прекрасно знает, что может сказать то же самое и о себе самом. Он поэт. Исполинские крылья, мешающие ему ходить, — это крылья поэта, а тяготеющая над ним неудача — это тоже неудача поэта. Его дендизм — это стерильное желание «поэтической запредельности».
Вместе с тем, будучи способом защиты от других, его кокетство становится инструментом общения с самим собой. По мнению Бодлера, его существованию не хватает полноты. Лицо в зеркале кажется ему настолько знакомым, что он его не видит, а течение мыслей представляется настолько привычным, что он ничего не может о нем сказать. Он повсюду окружен самим собой, а вот завладеть собой не может. Суть его усилий в том, чтобы восполнить самого себя. Однако тот образ себя, который он ищет в глазах окружающих, непрестанно от него ускользает; в таком случае нельзя ли увидеть себя таким, каким видят себя другие? Для этого достаточно установить дистанцию, пусть и микроскопическую, между своим взглядом и своим образом, между рефлексирующим и рефлектируемым сознаниями. Человек-Нарцисс, желающий возжелать самого себя, накрашивается и переодевается и в таком виде усаживается перед зеркалом; в результате ему удается возбудить в себе нечто вроде слабого желания, вызванного обманчивой видимостью собственной другости, Бодлер переодевается, чтобы преобразиться, а затем подсмотреть за самим собой. В «Фанфарло» он признается, что смотрится во все зеркала; это значит, что он хочет доискаться до себя такого, каков он есть. Вместе с тем в заботе о внешнем виде стремление обнаружить себя извне, как вещь, соединяется с ненавистью ко всему данному. Ведь в зеркале он ищет самого себя, но таким, каким он себя создал. Бытие, которое он видит, не есть чистая и чуждая ему пассивность, поскольку он нарядил и нарумянил ее собственными руками: это образ его деятельности. Таким образом, Бодлер пытается еще раз снять противоречие между своим выбором в пользу существования и выбором в пользу бытия: человек, отражающийся в зеркалах, — это его собственное существование в процессе бытия и бытие в процессе существования. Вглядываясь в свое отражение, он подвергает свои чувства и мысли одной и той же операции — он их наряжает и накрашивает так, чтобы они казались ему чужими, а вместе с тем оставались его собственными, принадлежали ему еще более безраздельно, поскольку он сам же их и сотворил. Он не выносит в себе и намека на спонтанность: его ясный ум видит ее насквозь, и Бодлер принимается разыгрывать испытываемое им чувство. Так возникает уверенность, что он сам себе господин; он — творец и в то же время — сотворенный объект. У Бодлера это называется актерским темпераментом:
В детстве я хотел быть то папой — но только папой военным, — то актером.
Наслаждение, которое я испытывал от этих двух галлюцинаций.
В «Фанфарло» он признается:
Будучи от рождения весьма порядочным человеком, а от нечего делать — немного прохвостом, Крамер, актер по природе, оставшись в одиночестве, принимался разыгрывать для самого себя упоительные трагедии, а точнее сказать, трагикомедии. Если он чувствовал щекотку подкрадывающейся веселости, то, стремясь закрепить это состояние, принимался хохотать во все горло. Стоило ему, растрогавшись при каком-нибудь воспоминании, позволить слезинке набежать в уголок глаза, и он бежал к зеркалу — смотреть, как он плачет. Стоило девице в приступе внезапной, ребяческой ревности оцарапать его иголкой или ножичком, как он уже поздравлял себя с ударом кинжала, а если ему случалось задолжать каких-нибудь несчастных 20 000 франков, то он радостно восклицал: