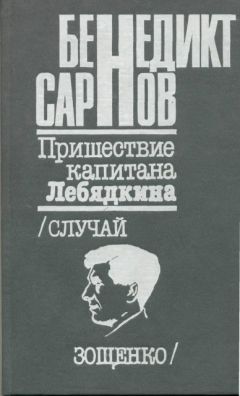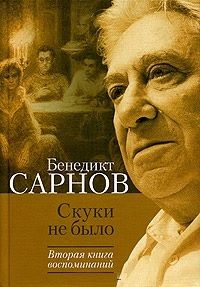А вслушаешься чуть внимательнее в эти их истерические клятвы — отчетливо услышишь пробивающиеся сквозь толщу официального пафоса совсем иные ноты:
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь —
как бы шаля, глаголом жечь.
(Евгений Евтушенко)
Будучи выразителем официального взгляда, автор этих строк вынужден делать вид, что Пушкин дорог ему главным образом и прежде всего своим заветом «глаголом жечь сердца людей». Однако, будучи в то же время все-таки поэтом, он вносит в этот официальный взгляд и свой, сугубо личный элемент. Попросту говоря, он проговаривается. И тут выясняется, что на самом-то деле Пушкин мил ему как раз теми свойствами, которые так талантливо расписал и разобъяснил нам в своей книге Абрам Терц. Опять все то же: певучесть, раскованная речь, способность жить, творить и даже глаголом жечь сердца не как-нибудь там топорно и грубо, а легко, игриво, весело, «как бы шаля».
Разумеется, и в той, старой России было великое множество людей, которым Пушкин был до лампочки. Но тогда это воспринималось как некое национальное бедствие, которое предстоит преодолеть:
...Придет ли времечко
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет...
(Николай Некрасов)
Старый русский поэт тосковал о том времени, когда все его соотечественники смогут наконец расположиться в огромном здании великой русской культуры, построенном Пушкиным, Белинским, Гоголем, Толстым, Достоевским. Но тосковал он и сокрушался именно потому, что сам-то в этом здании жил, оно было его родным домом. И если жилось ему в нем не вполне уютно, так именно от сознания, что миллионам его единокровных братьев в эти высокие каменные палаты нету хода.
Нынешний русский поэт лишь делает вид, что живет в этом старом здании. (Терц по крайней мере не притворяется, а прямо говорит, что здание это — не для жизни, что жить в нем нельзя.) Немудрено, что он не испытывает при этом никакой тоски, гостеприимно приглашая всех желающих тоже делать вид, что они в нем живут:
Ваши — Россия с ее маетой
всеискупленья.
Ваши — Рублев, Достоевский, Толстой,
Ленин.
(Евгений Евтушенко)
Тут стоит еще раз вспомнить слова Зощенко о том, что он только временно замещает «того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде».
Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.
(О себе, о критиках и о своей работе)
Вот он наконец и появился — настоящий пролетарский писатель, не нуждающийся ни в каких заместителях, поскольку он в силах уже сам говорить от своего имени и от имени своей изменившейся, «культурно выросшей» среды.
Евгений Евтушенко, по-видимому, искренне убежден, что все вышеперечисленные ценности (Рублев, Достоевский, Толстой) по праву принадлежат ему и его читателям. Что ж, ведь и бандерлоги искренне были уверены, что Мертвый Город принадлежит им! И зощенковский докладчик тоже, кажется, готов был поверить в то, что он является прямым и законным наследником Пушкина, Гоголя, Тургенева...
Германская война, как известно, началась двадцать три года назад. То есть когда она началась, то до Пушкина было не сто лет, а всего семьдесят семь.
А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около сорока лет.
Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году! То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла — чего доброго — и плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки.
Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более, что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но все-таки можно допустить эту волнующую возможность, тем более что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых...
Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Она, представьте себе, родилась в 1763 году, так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее подержать и понянчить... Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет этак шестьдесят с хвостиком, так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устраивались... Может быть, даже и она его нянчила...
Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других.
(Вторая речь о Пушкине)
Все эти рассуждения вполне логичны. Теоретически Пушкин действительно мог нянчить бабушку докладчика, ибо, если исходить из точных, абсолютно проверенных и неопровержимых фактических данных, в 1837 году, когда Пушкин был еще жив, этой самой бабушке был уже почти годик. И в то же время предположение, что бабушка докладчика плакала у Пушкина на руках, звучит в высшей степени комично. И, разумеется, не только потому, что она со своими родителями проживала в Калуге, где Пушкин никогда не бывал.
Комизм этого предположения основан на том, что чисто хронологическая возможность — еще далеко не достаточное основание для того, чтобы Пушкин запросто приходил к родителям бабушки докладчика и требовал у них, чтобы они дали ему ее подержать и понянчить.
Это пародийное начало зощенковского рассказа только подводит нас к самой сути проблемы. Суть же ее состоит в том, что оснований считать жителей современной России согражданами и соплеменниками Пушкина у нас имеется ровно столько же, сколько их имеется для предположения, будто Пушкин лично нянчил бабушку докладчика, баюкая ее на коленях.
Но, собственно, почему?
Как-никак эти люди, причастность которых не только к русской культуре, но и к русской нации Зощенко решается отрицать, живут на той же территории, на которой располагалась та, прежняя, пушкинская Россия, и говорят на том же, что и Пушкин, русском языке.
Казалось бы, чего же боле?
У нас видят в языке и государстве чуть ли не исчерпывающую характеристику нации. Ну, так есть или был народ, который сохранил и язык и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках. Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла и Сократа? А между тем литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византии писали почти чистым греческим языком, конечно, с легкими переменами в словаре, но не с большими, чем это обычно в многовековой истории единого народа. Римская империя, в составе которой жили классические греки со второго века до Р.Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно Византией, само себя называло Римской Империей. А между тем духовный тип византийского грека настолько далек от классического, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерождение классического типа? Для этого не надо было тысячелетия, процесс совершился гораздо более быстро, хотя и незаметно для современника. В третьем веке по Р. X. греческая литература (Плотин) еще бесспорно принадлежит классической древности. В пятом веке столь же бесспорно — Византии. Перерождение произошло за одно столетие. IV век был временем принятия христианства и острой ориентализации Империи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, чтобы породить новый народ из элементов старого, при полном сохранении государства и языковой традиции. Явление поразительное и угрожающее для современной России.
(Георгий Федотов)
Полное перерождение нации, происшедшее в течение всего лишь одного столетия, естественно, представляется Федотову явлением настолько поразительным, что он сообщает о нем как о величайшем парадоксе, как об одной из самых таинственных загадок истории. Немудрено, что, вступая на зыбкую почву исторических аналогий, он делает это крайне осторожно, рискуя лишь в предположительной форме заметить, что нечто подобное, быть может, угрожает в исторически обозримом будущем современной России:
Россия переживает сейчас процесс, совершенно подобный константиновской империи: перемену религии и острую окцидентализацию — в масштабе всенародном. Устоит ли в этом перерождении русский национальный тип — и при каких условиях? Вот вопрос, который нас мучит. Ответ на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не кончена. Может быть, она только начинается. Опасность несомненна и грозна. Но то живое, что долетает до нас из России, не дает права хоронить ее... Нельзя сплеча решать вопрос о гибели или перерождении русской нации, а следует более пристально вглядываться в происходящие там глубокие изменения. Полный смысл этих изменений откроется в будущем.