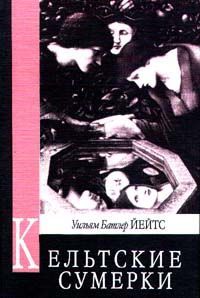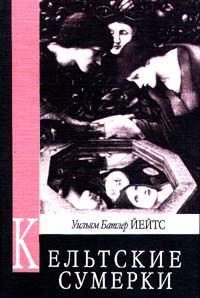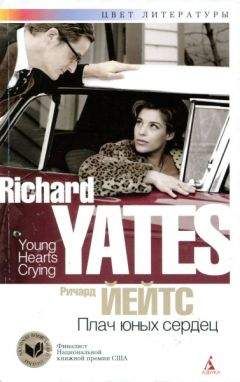Повстречавши призрака на той же тропинке и в третий раз, она спросила, что мешает ему покоиться с миром. Призрак сказал ей, что нужно забрать детей из работного дома, потому как до сей поры «никто из ее семьи в работный дом не попадал», а кроме того, отслужить три мессы за упокой души. «Если мой муж вам не поверит, — сказал дух, — покажите ему вот это», — и он дотронулся до запястья миссис Келли тремя пальцами. Те места, к которым прикоснулись пальцы, тут же почернели и распухли. Затем призрак исчез. Монтгомери также поначалу не поверил, что в округе бродит призрак его жены: «Она бы ни в жисть не стала являться миссис Келли, — сказал он, — она бы, чай, выбрала кого получше». Но три отметины на запястье его убедили вполне, и детей из работного дома забрали. Священник отслужил три мессы, и дух, должно быть, и впрямь успокоился, ибо с тех пор никто его больше не видел. Несколько времени спустя Джим Монтгомери сам умер в работном доме, пропивши все до нитки.
Я знаю людей, которые уверены, что видели на причале призрака без головы, и еще одного человека, за которым каждый раз, как он проходит мимо старой церковной ограды, увязывается женщина с белыми лентами на шляпе.{1} Призрак оставляет его только у двери дома. В деревне считают, что женщина эта хочет за что-то ему отомстить. «Вот помру, буду тебе являться», — самая популярная в этих местах угроза. А жену его как-то раз до полусмерти перепугало некое существо, сочтенное ею за беса в образе собаки.
Духов, обитающих, так сказать, на пленэре, не так уж и много; те из их братии, кто склонен к комфорту, а таковых большинство, просто кишмя кишат в здешних домах, многочисленные, как ласточки под южным скатом кровли.
Однажды ночью миссис Нолан сидела в своем доме на Фладди-лейн у постели умирающего ребенка. Внезапно в дверь постучали. Открывать она не стала, опасаясь весьма резонно, что стучит не человек. Стучать перестали. Чуть погодя передняя и задняя двери распахнулись разом и снова захлопнулись. Муж ее пошел посмотреть, что случилось. Обе двери оказались заперты. Ребенок умер. Двери опять распахнулись и захлопнулись, так же, как в первый раз. Тут миссис Нолан вспомнила, что она забыла, как следует по обычаю, оставить открытыми окно или дверь, чтобы душе было где выйти. Все эти странные открывания и закрывания дверей и стук были теперь вполне объяснимы — те духи, в обязанности которых входит помощь умирающему в доме человеку, предупреждали ее, напомнили ей о необходимости дать душе дорогу.
Домашний дух — созданье обыкновенно безвредное и к людям расположенное. С ним мирятся, покуда возможно. Он приносит тем, с кем живет, удачу. Я помню двух ребятишек, которые спали по ночам в крохотной комнатушке вместе с матерью и с младшими братьями и сестрами. В той же комнате обитал и дух. Они торговали в Дублине на улицах селедкой и против духа ничего не имели, потому что знали, что каждый раз, как они спят в комнате с «привиденьем», селедка у них расходится мигом.
Есть у меня знакомые духовидцы и в западных деревнях. Коннахтские сказки от лейнстерских отличны весьма и весьма. Характер у всех без исключения призраков из X серьезный, решительный и вполне прозаический. Они приходят, чтобы возвестить чью-то смерть, отомстить за причиненное зло, сделать что-нибудь, что не доделали при жизни, даже расплатиться по счетам, как одна тамошняя рыбачка, и мигом отбывают к месту постоянной прописки. За что бы они ни брались, все делается основательно и по правилам. В белых кошек и черных собак превращаются не призраки, а бесы. Люди, что рассказывают там истории с привидениями, — все сплошь серьезные, небогатые рыбаки, находящие в трудах и днях деревенских призраков редкую роскошь пощекотать нервы страхом. В западных сказках есть причудливая некая красота, чудная, диковатая экстравагантность. Люди, от которых слышишь здесь сказки, живут в местах невообразимо прекрасных и диких, под небом, полным изо дня в день и из края в край фантастических облачных замков. Они пашут землю, нанимаются в батраки и время от времени выходят за рыбой в море. Они не настолько боятся духов, чтобы не замечать в их проделках артистизма и юмора. Да и призраки у них такие же веселые и чудаковатые, как они сами. В одном западном городишке, где на пристани между камней растет трава, призраки — народ настолько энергичный, что как-то раз, как мне рассказывали, когда один Фома неверующий решил провести ночь в доме, который всему городу был известен как дом с привидениями, они просто-напросто выкинули его из окошка, а следом за ним и его кровать. В окрестных деревушках они принимают порой самые странные обличия. Один покойный джентльмен ворует капусту с бывшего своего огорода в образе большого серого кролика. Какой-то злой как черт капитан дальнего плавания поселился после смерти в стене дома, под штукатуркой, в образе бекаса и производил во всем доме шум просто невообразимый. Его удалось унять только сломавши стену; тогда из цельного куска штукатурки выбрался бекас и улетел, посвистывая, прочь.
«ПРАХ ПОКРЫЛ ЕЛЕНЫ ОЧИ»[16]
Не так давно я заехал погостить в одно тихое местечко — два-три дома это ведь еще не деревня — в баронстве Килтартан, графство Голуэй, чье имя, Баллили, широко известно в западной части Ирландии. Там стоит старый, квадратной формы замок Баллили,{2} где обитают фермер и его жена, неподалеку от замка, в крестьянском доме, живут их дочь и зять, и еще — маленькая мельница со старым мельником и старыми же ясенями, бросающими густую зеленую тень на воду в речушке и на огромные камни, вбитые в дно, для того чтобы можно было перейти ее, не замочивши ног. Я ездил туда прошлым летом два или три раза, чтобы поговорить с мельником о Бидди Эрли,[17] мудрой старой женщине, скончавшейся несколько лет тому назад в Клэаре, и об одной ее фразе: «Лекарство от любой напасти — меж баллилийских жерновов» — и попытаться выяснить у него или еще у кого-нибудь, что она имела в виду — мох на мельничном водостоке или другую какую траву. Я был там и этим летом, и буду до осени еще, потому что Мэри Хайнс, женщина красоты необыкновенной, чье имя до сей поры произносят почтительным шепотом у очагов с горящими кусками торфа, умерла шестьдесят лет назад именно здесь; ибо ноги наши сами замедляют шаг в тех местах, где жила свой недолгий и горестный век красота, чтобы дать нам, прохожим, понять, что она — не от мира сего. Старик повел меня куда-то в сторону от замка и от мельницы, вниз по длинной узкой тропке, почти потерявшейся в зарослях терновника и ежевики, и сказал в конце пути: «Вот тут стоял ее дом, даже и фундамента почти уже не видать, камни все порастащили на постройку стен,[18] а кусты, которые здесь росли, взялись объедать каждый год козы, пока они совсем не зачахли. Говорят, она была самая красивая девушка во всей Ирландии, кожа белая как снег и на щеках — румянец. У нее было пять человек братьев, все как на подбор, только они все умерли, давно уже!» Я поговорил с ним о песне, которую сложил о ней по-ирландски Рафтери,[19] знаменитый в тех местах поэт, и об одной строке из этой песни: «Глубокий погреб в Баллили». Он объяснил мне, что глубокий погреб — это большая дыра, где река уходит под землю, и проводил меня к глубокому омуту — когда мы подошли к воде, выдра скользнула у нас из-под ног и спряталась под большим серым валуном — и сказал, что рано утром откуда-то из самых глубин поднимается рыба, очень много рыбы, «чтобы попробовать свежей утренней воды с холмов».
Впервые я услышал эту песню от одной старухи, жившей в двух милях выше по реке, — она еще помнила и Рафтери, и Мэри Хайнс. Она говорила мне: «Никогда я не видела никого красивее, чем она, и никогда уже не увижу, до самой моей смерти», — он же был совсем, почитай, слепой и «жил одним только, ходил из дома в дом, а соседи все собирались его послушать. Если ты с ним, к примеру, хорошо обошелся, он тебя в стихах же и восхвалит, а если нет — проклянет тебя по-ирландски. Он был самый великий поэт во всей Ирландии и даже о кусте мог сложить песню, если ему случалось, скажем, под кустом стоять. Был один такой куст, под которым он спрятался от дождя и сложил ему хвалу в стихах, а потом, когда вода стала-таки протекать сквозь листья, сложил хулу». Она спела ту первую песню мне и моему другу[20] по-ирландски, и каждое слово в ней было звучным и сочным, какими и были, мне кажется, слова в каждой песне до тех пор, покуда музыка не зазналась и не расхотела быть простою одеждой для слов, текучих, изменчивых с током ритмов и смыслов, берущих друг от друга силу. В песне не было той естественности и прямоты, что свойственна лучшей ирландской поэзии уходящего века, ибо мысль облечена в ней в форму слишком уж традиционную — старый, нищий, слепой наполовину поэт, сложивший ее, вынужден поэтому говорить как богатый фермер, готовый все свое достояние положить к ногам любимой женщины; но есть в ней наивные и нежные строки. Часть песни перевел на английский мой друг, но большую часть перевели для нас сами крестьяне. Мне кажется, вы найдете в ней ту простоту ирландского стиха, которой недостает большинству переводов.