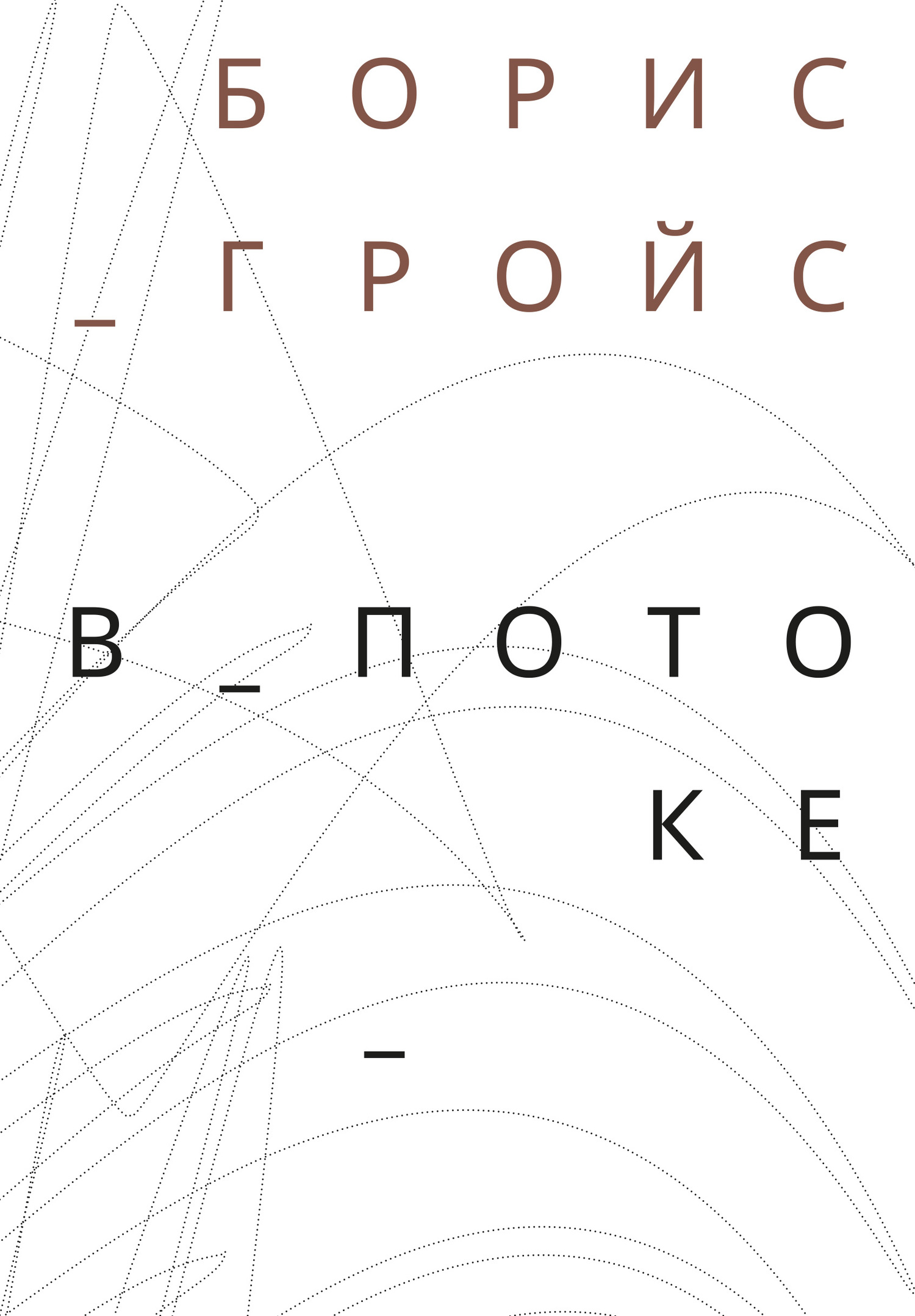существования как переводчика реального на никому (в том числе и ему самому) не понятный язык. Никто, как художник, не познает так отчетливо жестокость своей заброшенности в определенную манеру – свое единственное достояние. Никто, как художник, не знает с очевидностью, каков его путь.
И тут-то пророки духовности и берут слово. Оказывается, новое искусство говорит нам совсем не о том, о чем говорило старое. Старое искусство изображало материальное, земное – а новое искусство изображает духовное, небесное. Не надо искать на полотнах, изготовленных нашими современниками, зашифрованных соотношений между вещами мира, а также ничего психологического, но пластическое воплощение духовности. Духовность же есть нечто иное, чем мир, и требует, естественно, иного языка. Слово, которое говорит художник, поистине ново. Зритель не понимает его не потому, что он непонятлив, то есть не потому, что не владеет языком, но потому, что не владеет содержанием. Зритель духовно не возвышен. Отчасти этим же страдает и сам художник. Задача состоит в том, чтобы, преодолев мирские соблазны – соблазн живописности и интеллигентности, художник вышел к духовности. А уже дошедший до нее своим путем зритель его поймет. Постижение духовности средствами живописи, то есть искусства изобразительного, не может, по-видимому, состоять ни в чем ином, как в нахождении соответствий между реальностями, то есть теми единицами, на которые разложим духовный опыт, и элементами живописи – формой и цветом. И вот мы присутствуем при величественных раскопках всех возможных обломков всех метафизических систем прошлого и их водружении на всеобщее обозрение; этот психологический порыв не случаен и не может быть объяснен лишь пассеистской настроенностью его носителей. Как уже говорилось ранее, ничего нового в мире не произошло и никакого нового откровения – откровения чувствам, а не мысли (и притом общего художнику и зрителю) – не явлено. Поэтому, для того чтобы соответствия между «духовным» и видимым на полотне были узнаны и понятны, они должны быть всеобщими и устойчивыми, в некотором смысле наличествующими везде и всегда, а ныне лишь открытыми художниками. Своеобразие манер должно быть отвергнуто, и место эстетствующей оригинальности надлежит занять строгой дисциплине.
Гениальные заклинания одиночек, вроде Кандинского, Малевича и Мондриана, породили толпы однообразных подражаний, но оказались бездейственны и показались неосновательными. Зритель воспринял их творения только на профаническом уровне, и глубинный их смысл остался для него скрыт. Из чего заключаем, что не дерзания одиночек, но опыт, основанный на традиции, может выявить те компоненты, из которых слагается духовное в искусстве и которые должны быть очищены от жанрово-психологических примесей и даны такими, как они есть, чтобы творчество художника избавилось от проклятия обособленной своеобразности и приобрело всеобщий смысл и значение, его же и врата адовы не одолеют.
Нам ясен неогностический характер приведенных выше ложных и тлетворных рассуждений. Снова нас призывают к разделению мира на элементы низшие, высшие и средние. Снова дух шарлатанской магии и унылого сектантства выдается за тайнознание. Творческое начало душится сомнительными выкладками и компиляциями. Для невидимого знания нет видимого выражения. Понятия и категории метафизических систем не имеют общеобязательного эквивалента в виде комбинаций фигуративных элементов любого оттенка. Элементы же иконописи и других изобразительных систем прошлого не могут выглядеть на полотнах наших современников иначе, нежели атрибутами веры. Иконопись являлась выражением не духовности, а религиозности, что предполагает исторически и явно зафиксированную связь между обличением вещей невидимых и их облеканием в одежды земного (а не гностически понятого) быта. Эта связь устанавливалась в форме канона, и возвращением к ней может быть только вхождение в канон с принятием на себя полной ответственности за церковный мир во всем его объеме, а не обыгрывание канона и не спекуляция на нем с претензией на современное звучание.
В основе затей изображать невидимое и духовное лежит тот же произвол и та же экзальтированная субъективность художника, но только помноженные на высокомерие и сектантскую нетерпимость. Зритель, хорош он или дурен, просвещен духовно или нет, увы, не сопрягал в процессе своего духовного становления внутренние очевидности своего духовного опыта с комбинациями цвета и форм, а поэтому и не может их опознать на живописном полотне и неизбежно смотрит на них как на навязывание извне. Его восприятие произведения «духовного» искусства делается профаническим неизбежно. И не в силу бездуховности, достойной презрения, а вследствие конвенциональности, случайности связи, устанавливаемой художником между видимым и мыслимым содержанием его работ. Попытка выдать это случайное и условное за всеобщее и безусловное есть не более чем выражение культур-империализма и воли к власти. «С нами Бог» – таков издавна лозунг завоевательных войн. Ответ на него прост: с тобой Бог? – ну что же, Бог с тобой.
Итак, мы рассмотрели две возможные интерпретации смысла и значения современного искусства. Обе они, по существу, исходят из предположения о том, что искусство авангарда осталось искусством изобразительным, описывающим некую вне него лежащую реальность. Первая интерпретация предполагает, что, по сравнению со старым искусством, новое искусство изменило язык изображения, оставив изображенную реальность той же. Вторая же – видит новизну в перемене реальности, подлежащей изображению, скорее, чем в перемене языка – извечно тех же комбинаций цвета и форм. Первая интерпретация основана на культе эгоистической манерности, вторая – на воле к власти. И та и другая делают существование и творчество современного художника безосновательными. И все же, несмотря на предполагаемую безосновательность, несомненно, что искусство авангарда имеет успех и что имеется зрительская элита, которая его понимает. То, что она действительно понимает его, заслуживает полного доверия, ибо нет никаких оснований для нее обращаться к любому искусству иначе, как из потребности в нем. Понимание подобного рода не есть и иллюзия моды, ибо к элите принадлежат люди, которые создают моду, а не следуют ей. Каким же знанием обладают те, кто к элите принадлежит? Отнюдь не тайнознанием эзотерического языка и не проникновением в надзвездные сферы духовного. Элита понимающих искусство, скорее, напоминает ту часть зрительного зала, следящего за развитием сюжета 12-й серии многосерийного фильма, которая видела первые 11 серий. Хотя новички способны замереть от ужаса при виде злодея, целящегося в жертву, или расчувствоваться от слез героини – общий смысл происходящего останется им непонятен и общий итог зрелища для них – разочарование и раздражение, несмотря на кое-какие эмоциональные встряски. Умудренный первыми 11-ю сериями зритель холоднее, трезвее, но понимает обстановку тонко, конец предчувствует заранее и остается доволен как исполнением обещанного, так и неожиданностью, которую только он и может понять, поскольку только для него присутствует знакомое. Происходит же так оттого, что следующая серия фильма обнаруживает то, что, как загадка, скрывалось в предыдущей.