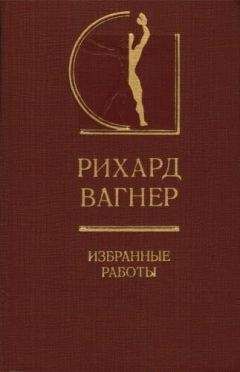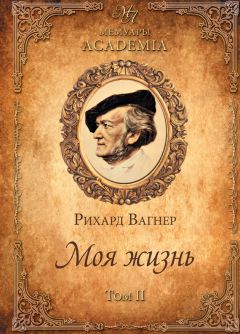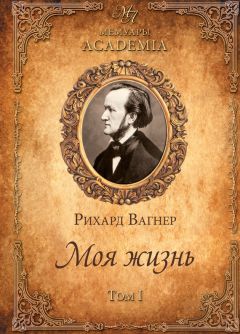Художник независимо от его цели находит удовольствие уже в самом процессе творческого труда, процессе овладения материалом своего оформления, — словом, самый процесс творчества является для него деятельностью, которая рассматривается им как наслаждение и удовлетворение, а не как труд. Ремесленник же интересуется лишь целью своих трудов, тем заработком, который его труд ему приносит; его деятельность не доставляет ему никакого удовольствия и, напротив, бывает ему в тягость, как неизбежная необходимость; он от всего сердца свалил бы всю эту работу на машину; только необходимость приковывает его к труду, его мысли не связаны с существом творчества, но устремляются к той цели, которой он хотел бы достигнуть кратчайшим путем. Если непосредственной целью рабочего является удовлетворение какой-нибудь личной потребности, например устройство собственного жилища, изготовление своих собственных орудий, своего платья и т. д., то удовольствие, которое ему доставят полезные вещи, оставшиеся в его владении, вызовет в нем наклонность обрабатывать материю сообразно со своим личным вкусом; когда он обеспечит себя всем необходимым, то его деятельность, направленная в сторону удовлетворения менее неотложных потребностей, сама собой возвысится до уровня искусства. Но если продукт труда ему не принадлежит, если у него остается лишь абстрактная денежная стоимость продукта, тогда немыслимо, чтобы его деятельность когда-нибудь поднялась выше машинной работы; она для него лишь труд, печальный, горький труд. Такова судьба раба индустрии; наши современные фабрики являют нам жалкую картину самой глубокой деградации человека: труд беспрерывный, убивающий душу и тело, без любви, без радости, часто даже почти без цели.
И в этом случае нельзя не признать плачевного влияния христианства. Действительно, так как христианство ставило перед человеком цель всецело вне его земного существования и так как только эта цель — бог абсолютный, сверхчеловеческий — имела для него значение, то жизнь могла интересовать человека в смысле удовлетворения лишь самых насущных потребностей (ибо, получив жизнь, всякий был обязан ее сохранять до тех пор, пока богу не заблагорассудится избавить его от этого тяжкого бремени); но эти потребности ни в коем случае не могли вызывать в людях желания любовно трудиться над материалом, который они должны обрабатывать для удовлетворения этих потребностей. Только абстрактная цель сохранения жизненного минимума могла оправдать нашу умственную деятельность, и таким образом мы с ужасом видим непосредственную реализацию духа христианства в наших современных хлопчатобумажных фабриках: в угоду богатым бог стал индустрией, которая позволяет жить бедному христианскому рабочему лишь до того времени, пока расположение светил на «биржевом небосклоне» не вызовет счастливой необходимости отпустить его в лучший мир.
Грек совершенно не знал, что такое собственно ремесло. Удовлетворение так называемых потребностей существования, которые на самом деле составляют главный предмет заботы нашей жизни, как частной, так и общественной, никогда не было для грека предметом, достойным специального и неусыпного внимания. Его интересы ориентировались только на общину, на всенародный коллектив: нужды этой общины были его нуждами, они удовлетворялись патриотом, государственным мужем, художником, но… не ремесленником. Чтобы принять участие в общественных празднествах, грек покидал свое скромное, без чванства обставленное жилище; ему показалось бы позорным и низким предаваться за стенами какого-нибудь частного пышного дворца роскоши и рафинированному сладострастию, что в настоящее время является главной сущностью жизни какого-нибудь героя биржи, — этим именно грек и отличался от эгоистичного восточного варвара. Он заботился о своем теле и об общих публичных банях и гимнасиях40. Одежда благородной простоты была предметом художественной заботливости, в особенности со стороны женщин, и всюду, где грек сталкивался с необходимостью ремесленного труда, он обладал естественной способностью находить в нем художественную сторону и поднимать его на высоту искусства. Самые же грубые домашние работы он взваливал на плечи раба.
Этот раб стал теперь фатальней осью судеб мира. Раб своим рабским существованием на уровне голого прожиточного минимума раскрыл все ничтожество, всю недолговечность красоты и всего обособленного партикуляристского гуманизма греков и доказал раз навсегда, что красота и сила, как основания социальной жизни, могут созвать прочное благополучие лишь при том условии, если они принадлежат всем людям.
Но, к несчастью, и теперь еще приходится это доказывать. На самом деле революция человечества, которая продолжается уже тысячи дет, обнаруживает тяготение почти исключительно в сторону реакции, регресса; она низвела до рабства человека прекрасного и свободного; раб и сейчас не свободен, но свободный человек стал рабом.
Грек считал только человека красивого и сильного свободным, и этим человеком был, конечно, он: все остальные люди, помимо его самого и ему подобных (греков), были в его глазах варварами, а в том случае, когда он ими пользовался, — рабами. Вполне верно, негрек в те времена был в действительности варваром и рабом; но он был человеком, и его варварство и рабство не были его природой, но его судьбой, грехом истории по отношению к его натуре, равно как и в настоящее время грехом всего общества и цивилизации является то, что самые здоровые народы в самом здоровом климате сделались жалкими калеками. Этот грех истории должен был вскоре отразиться и на свободном греке вследствие того, что сознание абсолютной любви к человеку не жило в душе наций; стоило лишь варвару покорить грека, и вместе с его свободой погибла и его сила и его красота; и раздавленные вконец двести миллионов людей, дико и беспорядочно брошенных в Римскую империю, должны были вскоре убедиться, что все люди должны одинаково быть рабами и несчастными, раз все они не могут одинаково быть свободными и счастливыми.
Итак, мы еще и в настоящее время рабы, но имеем утешение от сознания того, что мы все рабы в равной мере; рабы, которым некогда христианские апостолы и император Константин советовали терпеливо жертвовать жалким земным существованием для лучшей, загробной жизни; рабы, которых теперь банкиры и владельцы фабрик поучают, что цель жизни заключается в занятии ремеслом, чтобы заработать себе ежедневный кусок хлеба. Свободным от этого рабства чувствовал себя в свое время император Константин, который, как чувственный деспот-язычник, располагал земной жизнью своих покорных подданных, той жизнью, которую им расписывали как совершенно бесполезную. В настоящее время свободным, по крайней мере в смысле отсутствия общественного рабства, чувствует себя только тот, кто имеет деньги, ибо он может по своему желанию распоряжаться своей жизнью, вместо того чтобы тратить ее на добывание себе средств существования. Если стремление освободить себя от тисков всеобщего рабства проявлялось в римскую и средневековую эпохи в виде желания достигнуть неограниченной власти, то теперь оно выражается в жажде золота; не будем поэтому удивляться, что искусство тоже жаждет золота, ибо все стремится к своей свободе, к своему богу: а наш бог — золото, наша религия — нажива.
Но само искусство в своем существе всегда остается искусством: мы должны, правда, отметить, что его нет в современной общественности, но оно живет и всегда жило и индивидуальном сознании в виде единого, целостного, прекрасного искусства. В итоге намечается следующее единственное различие: у греков искусство было в общественным сознании, тогда как теперь оно существует лишь и сознании отдельных индивидов наряду с общественной бессознательностью в этом отношении. В эпоху своего расцвета искусство у греков било консервативным, потому что оно представлялось народному сознанию как вполне ему соответствующее; у нас же истинное искусство революционно, потому что оно может существовать, только находясь в оппозиции к общему уровню.
У греков совершенное искусство (драма) синтезировало все, что существо греческой духовной культуры считало достойным воплощения, являлось символом всей глубины греческой культуры: сама нация на фоне своей истории видела себя изображенной в произведении искусства, осознавала себя и в продолжение нескольких часов испытывала благороднейшее наслаждение от погружения, так сказать, в самое себя. Всякое расчленение этого удовольствия, всякое разделение сил, соединенных в одной точке, всякая сепарация элементов по разным специальным направлениям могла лишь быть пагубной как для этого столь законченно-единого произведения искусства, так и для самого государства, организованного аналогичным образом, и вот где заложена причина этого длительного процветания вне дальнейшей изменчивости. Вследствие этого искусство было консервативным, равно как и самые благородные люди греческого государства этой эпохи были консервативны. Эсхил является самый характерным воплощением этого консерватизма: его лучшим консервативным произведением была «Орестея»41, противопоставившая его как поэта юному Софоклу, а как государственного мужа — революционеру Периклу. Победа Софокла и Перикла вытекала из прогрессивного развития человечества; но поражение Эсхила было первым шагом к декадансу греческой трагедии, первой ступенью к распадению афинского государства.