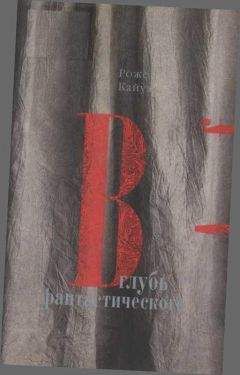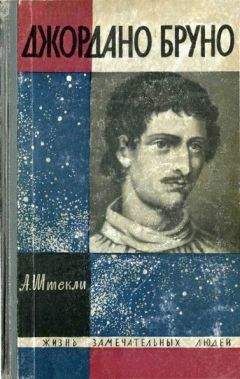Простые, чистые объемы, нерушимое основание грезы. Она могла бы здесь узнать как священнослужителя, так и куклу из детской считалки: «Ай-яй-яй, какой конфуз! Где ладошки, где картуз? — Виноват, исправлюсь живо, шапку я сниму учтиво, руку каждому подам: добрый день, месье, мадам». Фантазия снисходительна и эластична: в ромбоэдрах минерала ничего нет — только прямолинейные, нередко параллельные ребра, только острые, приближенные к прямому углы, только гладкие, чуть искривленные грани, только ромбы, соединяющие их вершины, — ничего, что опровергает или нарушает строгую и скупую геометрию. Такая конструкция способна напомнить разве что кубические фигурки полугномов-полуроботов Луки Камбьязо или Брачелли, если бы не ее сверхъестественная неподвижность, контрастирующая с непоседливостью этих паяцев. Торжественность пресекает всякое движение, исключая самую мысль о резвых прыжках и веселых кульбитах. Здесь в покое воцаряется всесильное чудо. Вот вспыхнул сноп нетерпеливо мятежных косых лучей, разметав во все стороны фонтаны искр, кипучих, как буруны на горных порогах. Вдруг они гаснут, мгновенно застывая, обуздывая присущий им хаос. Они смиряют его тишиной и серьезностью, и рождается ошеломляющее великолепие.
Видимый ритм вспышек известковой звезды дает знак: нечто, вселившись в нее, дышит и управляет ею. Она отбрасывает шлак и готовит светопроницаемое тело к прозрачности. Раскинув лучи по осям абстрактного пространства, она намечает стыки, благодаря которым все вещи находят в нем свое место. Тот, кто ее созерцает, чувствует, как поневоле начинает подражать ей, разводя руки в стороны. Тогда наблюдатель прочитывает собственную форму в расположении кристаллов. Он вдруг замечает, что сам превращает мнимость, не колеблемую ни вздохом, ни движением, в иератический образ экзорциста или призрака, нелегальных — по ту или другую сторону границы — проводников в иной мир.
Сомнительный вестник свидетельствует о благородстве царства недр. Он воплощает умиротворенное смятение, достигнутое постоянство. Вдобавок для человека — и только для человека — это залог тайного соглашения с подземным миром, почти ничтожный и все-таки решающий: едва уловимое предвестие, трофей и печать.
На противоположном полюсе шумливых форм, среди засеянных полей карикатурные силуэты в лохмотьях, повторяя перпендикулярное пересечение двух осей в пространстве, рисуют тот же образ человека с распростертыми руками. Оснастка состоит из двух скрещенных жердей, на которых вывешено яркое тряпье и звякающие жестянки — бросовая ветошь и заводской мусор, грязный хлам цивилизации. Птицы, быстро осмелев, садятся на эти чучела, вместо того, чтобы улетать прочь.
Бесполезные пугала, на свой лад изображающие задумчивого человека, нужны, чтобы оттенить потаенную, безмолвную красоту, которую некогда, еще до перипетий человеческой истории, измыслила материя-сомнамбула. Она либо приняла темный закон, либо изобрела его. Не ведая о том, она заселила будущее правдивыми миражами.
Жрица I.
Яшм из Орегона множество, и они разнообразны. Нередко потрясающе красивые, они принадлежат к области декоративного и вместе с тем вычурного искусства. Самые замечательные из них напоминают груды внутренностей. Они окрашены в лоснящиеся цвета разложения. При всем желании лишь в исключительных случаях в них можно различить какой-либо сюжет. Между тем на пластине, которую я собираюсь описывать, сюжет явлен с такой очевидностью, что, выбирая для нее название, я остановился на прежнем, уже найденном ее продавцом: «Солнцепоклонница». Он хранил яшму больше двадцати лет, и мне стоило труда уговорить его с ней расстаться.
Изборожденная, выжженная земля. Огромное мутное небо, в котором скоро сгустится мрак и заблестит молния. Высоко над горизонтом, у самого верхнего края камня — почти в зените — солнечный диск жемчужно-серого, пыльного цвета — цвета закипающего металла, подернутого дрожащей пенкой, как молоко. Он окружен раскаленным ореолом, яркая белизна которого блекнет, растворяясь в знойной дымке.
Слева, вытянувшись в струну, стоит на цыпочках жрица. Она высоко вскинула руки, и кажется, из-за эффекта перспективы, будто они воздеты намного выше светила, к которому обращена ее мольба. Тело ее тонко, величаво, все его мускулы вытянуты, напряжены в этом безупречно-вертикальном порыве. Живая стрела: плоский торс, чуть выпуклый живот, бедра едва обрисованы, шея выгнута, скована ритуальными ожерельями, голова запрокинута в трансе или оттянута назад тяжестью огромной девственной гривы — ее заплетенные в косы волосы с детства приглаживали, умащали, стягивали в узел священной прически, который, быть может, распускала любовь.
Воздетые руки словно касаются купола мира. Позади молящейся — пламенеющий горизонт. Перед ней — выцветшая от зноя лазурь. Не обычного благословения так истово испрашивает молитвенница. Столь красноречивы иссохшая почва и пустое небо, что, мнится, она взывает об уничтожении жестокой земли. Пусть она испарится от собственного жара — вот какое пожелание слышится в этом вопле. Если не гроза, не ливень — пусть хотя бы мрак принесет успокоение и изнуренному от света перегною, и истерзанной душе, измученному телу, с которого будто заживо содрана кожа. Оно как струна, что вот-вот лопнет: некоторые волокна уже не выдержали и скрутились кольцами по обе стороны разрыва.
Благородство осанки, силуэт, поза и особенно характерный профиль, напоминающий жертвенный топор: эта хрупкая девушка — точное подобие юкатанских принцев майя.
Такое родство более чем удивительно, оно настолько противоречит всякому правдоподобию, что поначалу возникает мысль о каком-то мошенничестве, ловком обмане. Убедившись в подлинности изображения и признав его чисто геологическую природу, я обратил свой скепсис на другое: мне подумалось, что, не имея таких поручителей, как изваяния на колоннах и фасадах храмов, я бы ничего здесь не разглядел, кроме продолговатых коричневых пятен на охристом и бледно-голубом фоне. И вот доказательство: стоит повернуть пластину на девяносто градусов — и эта безумная, эта исступленная, которая меня околдовала, вдруг исчезает. Ее монументальная прическа превращается в скалистый выступ — боковой отрог невидимой горы. Руки, вытянутые параллельно и настолько сближенные, что для меня они сливались в одну линию, и исхудавшее тело стали раскрытыми крыльями гигантской парящей птицы, а перетянутая шея — корнем, который эта птица старается вырвать из каменистой ниши. Расплавленный диск — теперь всего лишь досадно-неопределенное изменение породы: им можно пренебречь и на него не обращаешь внимания.
II.
При созерцании картины, зрелища, да и любого объекта, представшего перед глазами, чаще, чем кажется, устанавливается компромисс между ощущением и тем, что привносят, дополняя и корректируя его, смутные воспоминания, мгновенные догадки ума или игра воображения. Даже фотография не составляет исключения. При малейшем озадачивающем отклонении требуется ключ, который придаст образу прочность, незыблемость. Достаточно, чтобы на снимке был изображен предмет, странный сам по себе или вследствие непривычного ракурса, в котором фотограф решил его показать, — и разум спешит заполнить образовавшуюся брешь, то есть подавить свое удивление. Моментально включается интерпретация — рассудочная или импульсивная, которая, впрочем, не столько угадывает, сколько пассивно чему-то поддается.
Точно также торопливый читатель часто подменяет одно слово другим. Глаз подменяет то, что он видит, тем, что предвосхищает таинственное нетерпение. Видимая картина мира редко доходит до зрителя такой, какова она есть. Она тонет в неясном сплаве воспоминаний и желаний, где получает завершение, приобщаясь к его особой мифологии. Чаще всего восприятие оставляет незаполненным скудное пространство, но случается также, что оно уступает фантазии почти неограниченное поле деятельности.
На карте неба каждый соединяет звезды, как ему заблагорассудится. Каждый волен рисовать драконов или своих любимых героев вместо Большой Медведицы, Ориона, Весов и Большого Пса. Единственное затруднение — это выбор. Многим не хватит воображения, чтобы заполнить предоставленную им пустоту. Больной, наоборот, на самые конкретные, неопровержимые изображения неутомимо накладывает один и тот же навязчивый контур.
Я отклоняю эти крайние случаи. Меня интересуют только рисунки камней: как и рисунки облаков, коры или трещин на стене, они искушают прихотливую фантазию неотъемлемой от их природы неопределенностью. Часто здесь можно вычитать разное, как только что мы видели на яшме солнцепоклонницу или птицу. Подчас я спрашиваю себя: не является ли такая конкуренция достаточной причиной, чтобы эти изображения утратили всякий интерес, а их расшифровка свелась к какой-то произвольной, пустой игре, для которой с тем же успехом подошла бы первая попавшаяся основа. Ничего подобного.