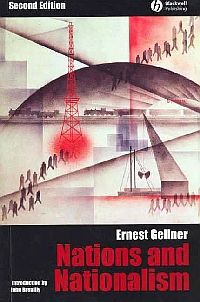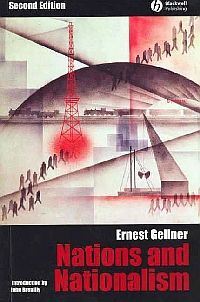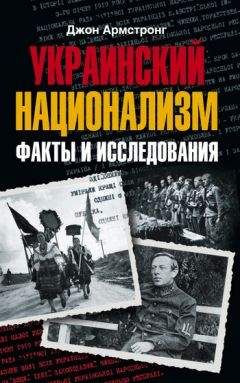Но мы вправе ожидать, что острота националистического конфликта ослабеет. Его обострение — результат социальных неравенств, вызванных ранним индустриализмом и неравномерностью распределения. Эти социальные неравенства, пожалуй, не превосходили тех, которые допускало, не моргнув глазом, аграрное общество. Но они больше не сглаживались и не узаконивались долговечностью и традицией и существовали в условиях, которые по-своему вселяли надежду и веру в равенство и требовали мобильности. Там, где культурные различия усугубляли эти противоречия, возникали серьезные осложнения. Если они не появлялись, ничего не происходило. «Нации», этнические группы, не были националистическими, когда государства складывались в сравнительно стабильных аграрных системах. Угнетенные и эксплуатируемые классы не изменяли политическую систему, если они не могли определить себя «этнически». Только когда нация стала классом, заметной и неравномерно распределяющейся категорией в других отношениях мобильной системы, она стала политически сознательной и активной. Только когда классу удается в той или иной степени стать нацией, он превращается из «класса в себе» в «класс для себя» или «нацию для себя». Ни нации, ни классы не являются политическими катализаторами, ими являются лишь «нации — классы» или «классы — нации».
Один интересный автор, пытающийся спасти марксизм, воскресить его или изобрести его новый жизнеспособный вариант, признает этот факт[39].
В зрелом индустриальном обществе больше не рождаются те глубокие социальные противоречия, которые могут затем усиливаться этничностью. Оно может сталкиваться с проблемами, иногда трагическими — следствием сдерживающих энтропию признаков, таких, как «раса», что будет явно противоречить его декларируемой эгалитарности. Оно должно уважать культурные различия там, где они сохраняются, особенно если они не глубоки и не создают истинных преград между людьми, ибо в противном случае сами преграды, а не культуры превращаются в серьезную проблему. Несмотря на то что существовавшее в старину обилие народных культур вряд ли способно дойти до нас — разве лишь в виде символов или завернутых в целлофан образцов, — можно не сомневаться, что интернациональное многообразие достаточно различающихся высоких культур останется с нами. Инфраструктурные капиталовложения могут служить гарантией их сохранности. Отчасти из-за того, что многие границы приспособились к границам этих культур, и, поскольку националистическая идеология в настоящее время пользуется широкой популярностью, развитые общества не часто решаются открыто противостоять ей и пытаются избежать прямых с ней столкновений. По столь различным причинам в зрелом индустриальном обществе (если человечеству суждено достаточно долго им наслаждаться) национализм продолжит свое существование, но в более приглушенной, менее жестокой форме.
IX. НАЦИОНАЛИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ
Примечательной особенностью нашего подхода к национализму был недостаточный интерес к истории националистических идей, а также к разработке и интерпретации, данной им отдельными националистическими мыслителями. В этом заключается его основное отличие от множества других подходов к этому предмету. Такое отношение не есть следствие пренебрежения к роли идей как таковых в истории. Некоторые идеи и учения имеют огромнейшее значение. (Причем совсем не обязательно именно хорошие идеи оказывают наибольшее влияние на общество. Одни идеи хороши, другие — плохи; одни имеют огромное значение, другие — нет, причем между этими противопоставлениями не существует систематической связи.) Например, два вероучения, известные как христианство и марксизм, условны: и то, и другое содержит в себе целый комплекс тем, каждая из которых в отдельности связана с ситуацией ее породившей. Но как данное сочетание, имеющее название, историческую основу и целостность, оба они были приведены в некое единство рядом мыслителей или священников.
Это единство оказалось в какой-то мере более жизнеспособным, чем их выборочное использование. Более того, едва родившись, оба учения захватили те общества, которые восприняли их идеи крайне серьезно и стали применять их (или некоторые из них) с большой решительностью. Принимая все это во внимание, если мы хотим понять судьбу этих обществ, мы обязаны иногда с вниманием относится к словам, доктринам и доказательствам тех мыслителей, которые создали господствующие в этих обществах учения. Например, определенные этнографические теории второй половины XIX века о сохранении коммунального духа в деревенских общинах отсталых стран оказали влияние на Маркса и Энгельса в 1870-е годы и в значительной их части вошли в учение марксизма, что, возможно, решающим и катастрофическим образом отразилось на советской аграрной политике.
Но, как мне кажется, к национализму все это не имеет отношения. (Одна из причин невнимания к национализму со стороны академических политических философов, несмотря на его неоспоримое значение, заключалась, между прочим, в его недостаточной оснащенности добротными теориями и текстами, которые могли бы устроить их в качестве материала, годного для того, чтобы разложить его по полочкам.)[40] Дело не в том, что идеи пророков национализма просто не были первоклассными, если обсуждать их с точки зрения качества мысли: это само по себе не может оградить историю от глубочайшего и решающего влияния, которое оказывают на нее мыслители. Такой вывод подтверждается многочисленными примерами. Гораздо существеннее, что эти мыслители мало отличались друг от друга. Если бы не стало одного, его место заняли бы другие. (Сами они любили говорить нечто подобное, правда, немного в ином смысле.) Незаменимых среди них не было. Качество националистической мысли едва ли пострадало бы от такого рода замен.
Разработанные ими учения вряд ли достойны того, чтобы их анализировать. Мы сталкиваемся с явлением, непосредственно связанным с основными изменениями наших общих социальных условий и с полнейшим изменением отношений между обществом, культурой и политикой. То, каким образом и в какой конкретной форме предстает это явление, зависит в огромной степени от местных условий, требующих изучения, но я сомневаюсь, что оттенки националистической доктрины могут повлиять на изменение этих условий.
Вообще говоря, националистическая идеология страдает от пронизывающей ее ложной значительности. Ее мифы извращают реальность: претендуя на защиту народной культуры, она фактически создает высокую культуру. Претендуя на защиту старого «народного» общества, она создает на деле новое анонимное массовое общество. (Донационалистическая Германия состояла из множества исконных общин, в большинстве сельских. Постнационалистическая объединенная Германия превратилась преимущественно в индустриальное и массовое общество.) Национализм пытается выдать себя за очевидный и не требующий никаких доказательств принцип, доступный для всех и нарушаемый лишь вследствие чьей-то упорной слепоты. В то же время его притягательность и захватывающая сила, неведомая ранее большинству человечества и большей части его истории, связаны лишь с совершенно особым стечением обстоятельств, сложившихся в настоящий момент. Он поклоняется исторической преемственности и выступает в ее защиту, но история человечества обязана ему откровенным и ни с чем не сравнимым расколом. Он исповедует культурные различия и выступает в их защиту, при этом навязывая политическим единицам как внутреннюю, так и, правда в меньшей степени, внешнюю однородность. Его самоощущение является до смешного точным перевернутым отражением его истинной природы, какое редко встречается в других процветающих идеологиях. Поэтому я и считаю, что нам едва ли удастся многое узнать о национализме от его собственных пророков.
Даст ли нам больше изучение его врагов? Немногим больше, но при этом следует быть осторожным. Основная заслуга врагов национализма, как мне кажется, состоит в том, что они учат не принимать национализм в его собственной оценке и интерпретации как нечто само собой разумеющееся. Такие пожелания прочно скреплены с условиями современного существования, когда те, кем управляют, и те, кто управляет, принадлежат к одной и той же культуре. Это является нормой и принимается как должное, а нарушение этой нормы рассматривается как нечто постыдное. Возможность избавления от такого распространенного убеждения поистине заслуживает благодарности. Это — настоящее озарение.
Но следовать во всем за таким яростным врагом национализма, как Эли Кедури, и рассматривать национализм как нечто условное, случайно созданное европейскими мыслителями, как заблуждение, которого можно избежать, было бы не менее ужасно. Национализм — принцип однородности культурных единиц как основ политической жизни и обязательного культурного единства правителей и подданных — не заключен в действительности в природе вещей, не таится в сердцах людей и не составляет основу общественной жизни в целом. Противоположная точка зрения есть подлог, который националистическая доктрина с успехом выдает за нечто само собой разумеющееся. Но национализм как явление, а не как доктрина, выдвигаемая националистами, связан с определенным рядом социальных условий, и эти условия, как оказалось, стали условиями нашего времени.