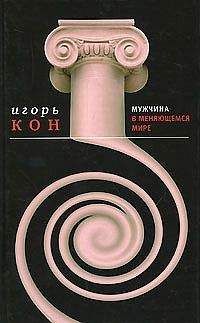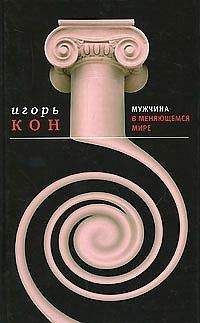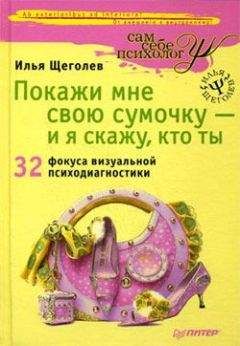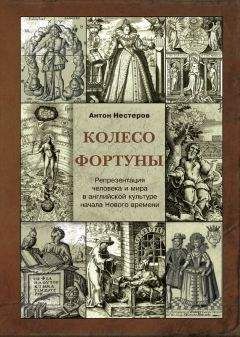превращении рабочих в «квалифицированные, особо дисциплинированные живые машины труда». Одновременно это были утопическая миссия и неотъемлемый элемент проекта социальной трансформации, лежавшего в основе программы большевиков. Новую советскую рабочую силу следовало преобразовать, по словам Евгения Замятина, в «стального шестиколесного героя великой поэмы» [12].
Влияние теорий Генри Форда и Фредерика Тейлора, развитие конвейерной системы производства и возрастающая механизация рабочих мест не ограничивались новым советским государством: воздействие этих идей на осмысление тела мужчины-рабочего было во многих отношениях общеевропейским феноменом. В качестве одного из аспектов этой тенденции можно рассматривать ницшеанский идеал гипермаскулинного телосложения в том виде, в каком он был популяризован в культуре после 1918 года: во времена, когда на повестке упомянутой выше новой механизации оказались сила, прочность и системность, с подобными качествами стало ассоциироваться и мужское тело [13]. Поэтому, как отмечает Мауриция Боскальи, модернистская программа заключалась не «просто в том, чтобы воспроизводить технологии и бросать им вызов — с ними, напротив, требовалось отождествляться», что приводило к изменению эстетической оценки мужского тела: теперь она фокусировалась на возможностях его производительного использования, а не на его физической красоте[14]. В соответствии с теориями Тейлора о рационализации работы посредством разбиения ее на единичные повторяющиеся задачи, человеческое тело, уподобляясь машине, становилось набором сменных запасных частей. Их требовалось поддерживать в хорошем рабочем состоянии путем физической тренировки, держать вне досягаемости пагубного воздействия алкоголя, религиозных практик и неграмотности, способных навредить производительности. Это было радикальным отступлением от классического идеала прекрасной и гармоничной мужской формы: с модернистской и советской точек зрения, тело требовало восхищения не по причине его красоты и силы, а за счет его потенциальных достижений и того, какое напряжение оно могло вынести, в особенности когда становилось частью более масштабной трудовой ячейки.
Подобное осмысление мужского тела вышло из фавора с закатом авангардистского движения после 1932 года и смещением советской культуры в направлении социалистического реализма — эстетики, которая сделала своим главным идеалом не технологии, а взаимодействие между людьми. Однако идея физически совершенного тела, хорошо подготовленного к трудовым задачам, по-прежнему находила отклик на протяжении 1930‐х годов, а характерную для этого периода увлеченность физической культурой, спортивным мастерством и молодостью можно рассматривать как ответвление рассмотренных выше ранних революционных идей [15]. Эти образцы имели первоочередное значение в то время, когда новая война казалась почти решенным делом, поскольку советской армии труда теперь требовалось не только с готовностью бороться за достижение социализма, но и сражаться против внешних угроз, появившихся на горизонте. В течение 1930‐х годов эта милитаристская линия, всегда являвшаяся частью советской модели маскулинности, становилась все более заметной. Данная тенденция вела к подлинно «новой конфигурации мужской гегемонии, [которая] делала мужскую роль солдата первостепенным элементом этой новой маскулинной идентичности», по мнению Томаса Шранда [16]. Это восхваление воинственного поведения выходило далеко за рамки чествования собственно военных [17]. Как и в самом начале революции, милитаризм пронизывал почти каждый аспект социума: все что угодно было битвой, и от каждого ожидалась готовность к борьбе и принесению жертвы ради победы в войне как с внутренними, так и с внешними врагами Советского государства.
Наконец, еще одной типичной стороной идеальной маскулинной модели является отцовство (этот момент становится несомненным после отдаления от монашеского идеала, бытовавшего в раннее Новое время). Именно здесь и обнаруживается наибольшее расхождение советской модели как с современными западными, так и с традиционными русскими ценностями. Советский режим бросил вызов глубоким патриархальным корням русского общества на всех фронтах. В практическом аспекте на это повлияли индустриализация и разрушение семейных связей, в идеологическом — марксистская враждебность к семейной ячейке, а в символическом — ряд вводившихся в начале советского периода законов, которые замещали биологическое отцовство патерналистским государством. Только в середине 1930‐х годов достойное выполнение роли отца стало рассматриваться как относительно важная составляющая добропорядочного советского гражданина, однако этот риторический сдвиг теряется на фоне усиливавшегося давления на материнство как главную женскую функцию. В то же время место отцовства в качестве одного из аспектов идеализированной модели мужественности жестко ограничивалось тем обстоятельством, что после 1934 года сам Сталин придал себе облик главного советского отца. По выражению Катерины Кларк, возник «великий семейный миф» — представление, что преданность человека государству и его вождям всегда должна превосходить преданность, которую тот может испытывать по отношению к кровным узам [18]. Сочетание превознесения официальной пропагандой материнства и подчеркнуто сдержанного отношения к отцовству, а также патерналистский облик самого государства позволили исследователям предположить, что отцовство никогда не имело особого значения для Нового советского человека, если вообще когда-либо было частью этого архетипа [19].
Таким образом, предстающий перед нами образ Нового советского человека является крайне милитаризированным, основанным на ценностях самопожертвования и преданности, — самоотверженный труд и стремление к благополучию коллектива преобладают в этом образе над любыми частными интересами, для чего требуются физическое здоровье и моральная стойкость. Однако, как будет показано в последующих главах, эта модель Нового советского человека, созданная в 1930‐х годах, не была устойчивой: вместе с меняющимся обликом социума — сначала с окончанием войны, а затем и со смертью Сталина — трансформировались и представления о том, что такое идеальный мужчина, и способы его изображения.
В этом отношении предлагаемое исследование визуальной репрезентации советской маскулинности существенно дополняет представления сегодняшних ученых — это гораздо более детализированное понимание культуры позднесталинской эпохи и первых лет хрущевской оттепели. В последние годы изучение послевоенного периода оказалось одним из наиболее динамичных исследовательских направлений. Это привело к появлению работ, принципиально изменивших восприятие позднесталинского общества как в части его «внутренней кухни» и политики, так и в осмыслении опыта послевоенного восстановления страны и официально санкционированной «нормализации». В упомянутых работах это время предстает как самостоятельный период развития Советского Союза, который невозможно сбрасывать со счетов как имеющий меньшую значимость на фоне потрясений 1930‐х и пафоса конца 1950‐х — начала 1960‐х годов. В результате более сложного понимания заключительных лет сталинизма появился ряд исследований, в которых начался слом границ между этим периодом и годами, которые традиционно именуются оттепелью. В этих работах вновь и вновь подчеркивались значимые моменты преемственности поверх переломного 1953 года. Те тенденции, которые прежде рассматривались как результат либерализации эпохи оттепели, прослеживались вплоть до их истоков на рубеже 1940–1950‐х годов, а представление о том, что позднесталинское общество было статичным и окостеневшим, регулярно оспаривалось благодаря исследованиям в самых разнообразных областях — вплоть до официальной научной политики и консюмеризма [20]. Хотя акцент на преемственности и границах десталинизации актуализировал вопросы о восприятии хрущевского периода в качестве оттепели в сравнении с предшествующим