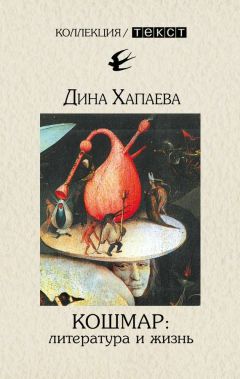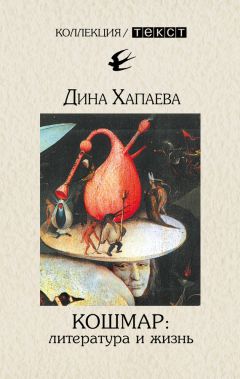Потом началась для него какая-то странная жизнь. Порой, в минуту неясного сознания, мелькало в уме его, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и в минуту напряженной, самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая, бездонная темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством, весельем настоящий светлый миг и снится наяву неведомое грядущее; когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу; когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда чувствуешь, что немощна плоть под таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением [369].
К превращению счастливой грезы в кошмар Достоевский вернется позднее, в «Сне смешного человека».
Как и в «Двойнике», в композиции «Хозяйки» большое место отведено отражениям. Рассказ Катерины о своей жизни — о начале ее связи с Муриным, бывшим любовником ее собственной матери, из ревности проклявшей дочь, о ее пособничестве в убийстве отца и жениха, — рассказ, исполненный фольклорных выражений, столь же страшный и долгий, как сказка только что пережитого героем кошмара, создает дополнительное измерение кошмара и наделяет его новыми сильными образами. Оцепеневший от рассказа Катерины Ордынов безуспешно силится отличить кошмар от сновидения, ибо, как выясняется, ее рассказ и есть все тот же кошмар, все та же сказка, уже недавно виденная им:
Мало-помалу он впал в какое-то оцепенение. В грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. (…) Он опять припал на постель, которую она постелила ему, и снова стал слушать. (…) На миг мелькнуло в уме его, что он видел все это во сне. Но в тот же миг весь состав его изныл в замирающей тоске, когда впечатление ее горячего дыхания, ее слов, ее поцелуя наклеймилось снова в его воображении. Он закрыл глаза и забылся. (…) Ему вдруг показалось, что она опять склонилась над ним (…) [370]
Сказка — непонятная, народная, напоминающая колдовской заговор, не была ли она, это средневековое отродье, драконьим зубом, дремавшим под гнетом просвещенной культуры в ожидании своего часа — часа материализации кошмара в современности?
Опыты над писателем
М.М. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского»
Достоевский очень широко использовал художественные возможности сна почти во всех его вариациях и оттенках. Пожалуй, во всей европейской литературе нет писателя, в творчестве которого сны играли бы такую большую и существенную роль, как у Достоевского. Вспомним сны Раскольникова, Свидригайлова, Мышкина, Ипполита, подростка, Версилова, Алеши и Дмитрия Карамазова.
М.М. Бахтин
Немота слова, плененного кошмаром, оставалась, особенно в поздних произведениях — «Братьях Карамазовых», «Сне смешного человека» и «Бобке», — одной из главных тем творчества Достоевского. Однако прежде, чем перейти к кошмарам, созданным рукой зрелого художника, следует остановиться на самой известной интерпретации наследия писателя, в которой полностью игнорируются его кошмарно-готические истоки.
Бесконфликтная поэтика Достоевского
В «Проблемах поэтики Достоевского» [371] М.М. Бахтин вводит три ключевых понятия — самосознание героя, «роман идей или герой идеи» и жанр мениппеи. Мы сначала рассмотрим эти понятия применительно к творчеству Достоевского, а следом обратимся к анализу Бахтиным двух наиболее интересных, для понимания природы кошмара, произведений писателя — «Двойника» и «Бобка».
С точки зрения Бахтина — философа, которому была близка идея отождествления языка и мышления, ибо «где начинается сознание, там для него начинается и диалог» [372], — Достоевский писал ради того, чтобы выразить самосознание своего героя:
Гоголевский мир, мир «Шинели», «Носа», «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего» остался тем же в первых произведениях Достоевского — «Бедных людях» и в «Двойнике». Но распределение этого содержательно одинакового материала между структурными элементами произведения здесь совершенно иное. То, что выполнял автор, выполняет теперь герой, освещая себя сам со всевозможных точек зрения; автор же освещает уже не действительность героя, а его самосознание, как действительность второго порядка [373].
Не будем специально останавливаться на том, как именно Бахтин конструирует особенности творчества Гоголя по контрасту с тем, что он хочет подчеркнуть в Достоевском. Отметим лишь, что, как и многие другие, Бахтин видел в Гоголе «представителя натуральной школы» и был уверен, что Гоголь, этот поэт кошмара, героями которого были сновиденья и фантомы, описывал «объективную реальность» [374]. Приведу лишь один фрагмент из «Шинели», чтобы позволить читателю самому решить, можно ли счесть эту повесть изображением «действительности героя»:
Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за ничем не примечательную жизнь. Но так уж случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенний шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели (…) [375]
Затем описывается встреча с этим мертвецом важного чиновника:
Обернувшись, он (значительное лицо. — Д.Х. ) заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши (…) могилою, произнес такие речи (…) [376]
Но вернемся к анализу Достоевского у Бахтина. Читателю, не понаслышке знакомому с парадигмой наук о человеке, которую Поль Рикер, вслед за Ницше, метко окрестил «философией подозрения», подразумевая под этим разнообразные течения мысли последних полутора столетий — марксизм, психоанализ, структурализм и др., — которые исходили из предположения, что люди не понимают подлинные мотивы своих поступков и только вооруженный научным методом аналитик в состоянии познать их истинную суть, не составит особого труда представить себе, в чем видел Бахтин особенности жанра мениппеи, сквозь призму которого он читает Достоевского. «Представитель творческой памяти в процессе литературного развития», жанр обладает по отношению к автору принудительной логикой, «определяющей неразрывное сцепление всех ее элементов». Мениппова сатира определила развитие мировой литературы, в том числе и творчества Достоевского [377]. Именно жанр средневековой мениппеи Бахтин считает истоком «романа идей», а карнавал — одним из проявлений этого жанра, свойственным, в частности, творчеству Достоевского.
Еще два важные понятия, которые вводит Бахтин для чтения Достоевского — диалогичности, а именно представления о том, что любое высказывание предполагает обращение к Другому, и полифонии — особого принципа построении романов Достоевского, при котором автор не имеет решающего слова в полемике и в оценке героев, — тесно связаны с концепцией самосознания. Бахтин утверждает, что самосознание героя, понимаемое как речь, обращенная к самому себе или к Другому, составляет главное содержание прозы писателя, так что «вся действительность становится элементом самосознания» [378] героя.
Но с концепцией самосознания применительно к Достоевскому возникают некоторые сложности. Как мы видели, произведения Достоевского часто оказываются еще дальше от «отображения действительности», чем у Гоголя. Как это сочетается, с точки зрения Бахтина, с необходимостью передать подлинное «самосознание» и «правдоподобие героя Достоевского»? Бахтин утверждает, что именно «фантастическое» и есть условие для их изображения:
Правдоподобие героя для Достоевского — это правдоподобие внутреннего слова его о себе самом во всей его чистоте, но, чтобы его услышать и показать, чтобы ввести его в кругозор другого человека, требуется нарушение законов этого кругозора, ибо нормальный кругозор вмещает объектный образ другого человека, но не другой кругозор в его целом. Приходится искать для автора какую-то другую фантастическую точку [379].