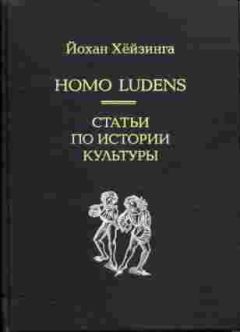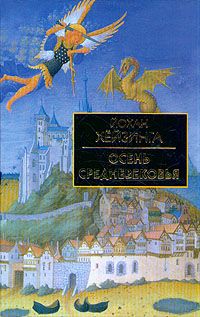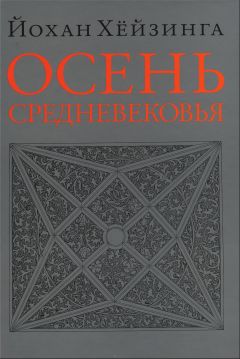чтобы такой образ мыслился как живая реальность, – персонаж романа, осознаваемый как вымышленная фигура, может выступать здесь как историческая идея. Так что историческим жизненным идеалом я называю всякое представление о некоем великолепии и превосходстве, которое проецируют в прошлое. Существуют общечеловеческие устремления, которые воодушевляют целый культурный период, а также такие, которые значимы для отдельной страны или одного народа, и, наконец, такие, которые сопровождают жизнь одного-единственного человека. Я ограничусь главным образом первым, всеобщим типом.
Если мы посмотрим на чреду таких идеалов в течение достаточно длинного периода времени, то обнаружим, по-видимому, непрерывающуюся определенную линию развития. В ранние культурные периоды это мифы; ощутимая историческая основа отсутствует. Это идеалы полного счастья, понимаемые очень расплывчато и весьма отдаленные. Постепенно все большее значение приобретает память о действительном прошлом: историческое содержание возрастает, идеалы становятся более определенными и более близкими. И когда уже на идеал совершенного счастья безутешно взирают как на безвозвратно утраченный, возникает потребность жить, следуя именно этому идеалу. Возрастает не только его историческое, но и его этическое содержание.
Одновременно с общечеловеческими идеалами возникают, однако, особые идеалы, ограниченное содержание которых делает их значимыми лишь для определенной группы. Именно таковы национальные идеалы. Они живут дольше общечеловеческих. Ибо если современное историческое мышление лишило эти последние всего их великолепия, так что они утратили наивное очарование непосредственных жизненных образцов, национально-исторические идеалы, по мере все более интенсивного изучения истории, получают все больше пищи. Тем не менее они остаются по преимуществу более символами, нежели непосредственными примерами для подражания. Современный мир ищет не столько общие исторические примеры счастья и добродетели, сколько, и в гораздо большей степени, – исторические символы, выражающие национальные чаяния.
Древнейшее представление о былом совершенстве является одновременно и наиболее общим: это золотой век как первоначальный период истории человечества – образ, известный индийцам и грекам4. Особой формы, которую принимает эта идея в рассказе о земном рае, я здесь не касаюсь. Образ золотого века, критаюга7*, охватывает весь спектр наслаждений: от самых низменных до возвышенных, от страны лакомок и лентяев8* – до созерцания Бога. Но прежде всего здесь идет речь о мире, невинности и отсутствии законов, вечной юности и долголетии. Для древних это был исторический идеал в полном смысле слова. Не только Гесиод, но также и Тацит и Посидоний рассматривают его в рамках истории5 9*.
Одна вещь все же не входит в представление такого рода: обещание возврата, так же как побуждение стремиться своими собственными силами восстановить утраченное блаженство. В тесной связи с идеей золотого века развивается идея Элизиума, или островов блаженных. И в индийских, и в поздних греческих легендах мы обнаруживаем такой переход, когда прежний царь эпохи золотого века – здесь Кронос, там Йама – считается затем владыкой Элизиума6 10*. Но в то время как Элизиум Гомера и острова блаженных Гесиода, по мнению древних, были расположены в земном мире, где-то далеко на Западе, но все же достижимы для смертных – индийский Йама в Атхарваведе11* это «тот, кто первым из смертных всех умер, в мир иной первым кто отошел…»7. Идеал земного счастья, бесконечно давнего или бесконечно далекого, превратился в представление о счастье в мире ином. Это должно было произойти: абсолютный идеал счастья неминуемо переходит границу жизни и выливается в желание смерти.
Во все эпохи цивилизации с сильной жаждою абсолюта, такие, как ранний буддизм и христианское Средневековье, представления о мире ином, естественно, перевешивают все прочие культурные идеалы. Такие периоды сосредоточиваются на смерти, а не на жизни. Однако ни один из них не доходит до слишком уж строгого отвержения мира и жизни, поскольку желание счастья не может быть поглощено упованием вечности; иными словами, всегда остается неисчерпаемая энергия жизни, жаждущая земного счастья и земного свершения.
Можно ли здесь без обиняков говорить о культурных идеалах? – Нет. Вера в полноту и совершенство культуры чужда Средним векам; они не знали стремления к последовательному строительству на основе общественной данности, их не воодушевляло чувство непрерывных изменений, формирующее действенные силы всех социальных и политических побуждений нашего времени. Единственный средневековый идеал счастья, который может быть назван культурным идеалом в полном смысле этого слова, – это идеал всеобщего мира, идеал Данте12*.
Все прочие не только ретроспективны, но и в значительной степени негативны. Исходя из глубоко укоренившегося представления: раньше все было лучше и поэтому нам следует вернуться к первоначальной чистоте в обычаях, правах и законах, – культура отрицает самое себя. Бегство от сегодняшнего дня, стремление уйти прочь от ненависти и нищеты, несправедливости и насилия, бегство от земной действительности – одним словом, избавление от уз, мокша13*, – таковы глубочайшие основания, связывающие земное и небесное стремление к счастью.
Формы, в которых может найти выражение бегство от повседневности, по самой природе вещей ограничены. Число культурных форм вообще весьма ограничено. Там же, где исходным пунктом всегда было отвращение к безнадежной пестроте и крикливости жизни, а целью – простота и истина, покой и мир, – там могут быть пригодны лишь немногие формы.
Среди образов прошлого, выступавших в качестве идеала, был один, о котором можно сказать, что он с самого начала рассматривался как непререкаемо высокий образец для подражания. Это жизнь Христа и апостолов, идеал евангельской бедности. И все же потребовалось, чтобы сперва возник некий новый исторический образ, чтобы рядом с иератическим образом Христа встал исторический образ, явственно зримый и мучительно переживаемый, прежде чем евангельский образец достиг практической ценности и воздействия жизненного идеала. Лишь в XII в. слова «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай, что имеешь, и раздай бедным» достигают цели как повеление. Бернард Клервоский видит это в своем красочном воображении, а Пьер Вальдо и Франциск Ассизский вносят в мир всей практикой своей жизни14*. «Чему научили и чему до сих пор учат нас святые апостолы? – восклицает св. Бернард. – Они дали мне учение жизни»8. Это осознанный исторический жизненный идеал. Более одиннадцати столетий, говорит Данте, Бедность, лишившаяся своего первого супруга, пребывала во тьме и заброшенности, пока вновь не обрела уважения9. Подражание Христу, как оно пробуждается в св. Бернарде, это и есть возрождение; и когда Фома Кемпийский, вслед за св. Бернардом, снова провозглашает его спустя три столетия, это становится возрождением возрождения15*.
Основное устремление здесь: разорвать узы, освободиться от зависимости – могло найти самое чистое воплощение не иначе, как в идеале бедности. Идеал добродетели и небесный фон совершенно заслоняют здесь идеал счастья. Однако последний – обещание земного счастья – здесь явно присутствует10. Также и влечение к отказу от дома