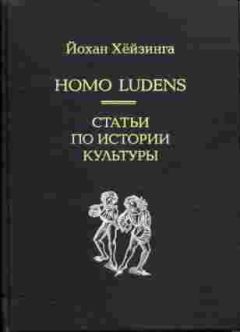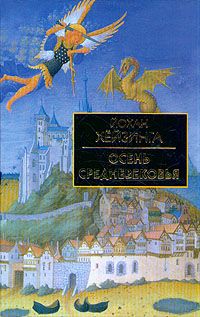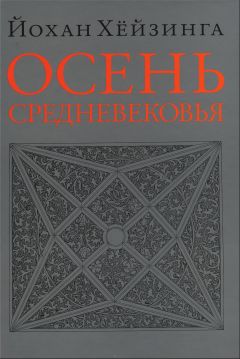и собственности вовсе не было всего лишь богословским побуждением – но вечным самоотречением культуры по ее собственной воле, священным странничеством, где pauperes de Lugduno [лионские бедняки] и первые последователи Франциска Ассизского встречали шпильмана и пилигрима, странствующего школяра и бродягу.
Сколь резким ни казался бы с первого взгляда контраст между идеалом евангельской бедности и пастушеской жизни, между ними, однако, есть тесное родство: буколическое настроение. И здесь тоже было бегство от культуры, жажда простоты и правды. Но если пастушеский идеал отказывался от культуры ради природы и удовольствия, то апостольский идеал отказывался и от культуры, и от природы – ради добродетели и чаяния небес. Весьма различна была действенная ценность этих двух идеалов. Подражание Бедности было чрезвычайно серьезным делом для ее почитателей. Никто не сомневается в громадном воздействии этой идеи на историю. Подражание пастушеской жизни, напротив, было едва ли чем-то большим, нежели общей игрой. Есть достаточно оснований для сомнения, действительно ли эта милая фантазия оказала какое-либо влияние на развитие культуры.
Ничто не очаровывало человечество так долго своей свежестью, своим блеском, как образ вожделеющей пастушеской свирели и нимф, застигнутых врасплох в шелестящих дубровах и у журчащих ручьев. Это представление сродни представлению о Золотом веке. И они то и дело соприкасаются: это Золотой век, вновь возвращенный к жизни. Хотя в буколических фантазиях большею частью присутствует мысль о давно минувшем великолепии (судя по Горациеву «Beatus ille»11)16*, здесь можно говорить также об историческом, так сказать, о ретроспективном идеале. Лишь изредка пасторальная поэзия становится жертвою своего рода путаницы, где к подлинным селянам примешивают Коридона и Дафниса17*.
По-настоящему наивной и естественной буколика не была никогда. Уже у Феокрита она выступает как плод утомления от городской жизни, бегство от культуры. Уже достаточно рано то тут, то там слышится несколько иронический тон, проскальзывает ощущение фальши. В дальнейшем пастушеская поэзия переживает серию возрождений. Возрождением был период, когда буколическими сделались римские поэты века Августа; вновь пришло возрождение, когда стал развиваться позднегреческий пастушеский роман; и еще одно возрождение наступило, когда довольно неуклюжие beaux-esprits [остроумцы] при дворе Карла Великого изображали из себя Тирсиса и Дамойта, а Алкуин пел о кукушке12 18*. Позднее буколический мотив подхватывает рыцарская лирика и культивирует его в пастурели19*. В XV в. буколическая фантазия разрастается обильнее, чем когда бы то ни было. Она задает тон при дворах герцогов Орлеанских и герцогов Бургундских, а также при дворе Лоренцо Медичи. Король Рене Анжуйский проводит этот идеал в жизнь20*:
«J’ay un roy de Cecille
Vu devenir berger,
Et sa femme gentille
De se mesme mestier.
Portant la pannetiere,
La houlette et chappeau,
Logeans sur la bruyere
Aupres de leur trouppeau»13.
«Сицилии король
С супругою не раз,
В зеленую юдоль
Пришед, овечек пас.
Лишь посох да еда
В суме – ему и ей;
Приволье – и стада
Средь вереска полей».
Далее, из Италии и Испании приходит новая великая пасторальная драма и нескончаемый пасторальный роман: Саннадзаро, Монтемайор, Тассо, Гуарини, д’Юрфе21*. Веком позже на этом празднестве появляется также и наша бравая Голландия со своими аркадиями, словно сельский учитель в своих деревянных кломпах, забредший невзначай на пирушку. Наконец XVIII в. приносит последнее и самое изысканное возрождение пасторального вкуса: Ватто, Буше, идиллии Саломона Геснера22*.
Затем форма эта умирает. Еще в XVIII в. литературоведение искренне рассматривало пасторальную поэзию как наиболее самобытный литературный жанр и наиболее совершенное выражение чувства природы. Однако затем пастушеский посох и рожок, а вместе с ними и свирель Пана, были отброшены как предметы устаревшего реквизита. Форма в конце концов одряхлела, но духовная потребность, давшая начало пастушеской поэзии, продолжала существовать: не только в Поле и Виргинии23*, но и много позже, вплоть до настоящего времени. Пан все еще самый живой из всех богов Греции.
Но оказал ли этот буколический идеал жизни какое-либо действенное влияние на культуру? Не принадлежит ли он всего лишь истории литературы? Однако история литературы – это и история культуры. Для истории культуры чрезвычайно важно, что люди в рамках пастушеской поэзии научились выражать любовь и природу. И даже вне сферы возможностей эстетического выражения пасторальная идиллия воздействовала на культуру: идея естественного государства от Античности до Руссо черпала свою силу и жизненность в буколической идиллии и представлениях о золотом веке.
Поразительная жизненная сила пасторальной формы заявляет о себе также в той легкости, с которой буколические образы соединяются с чужеродными идеями, например с религиозными. Было очевидно, что образы пастухов в Вифлееме, Доброго Пастыря и даже Агнца Божьего появились в связи с пасторалью, и изложение церковного материала в буколической форме в различные периоды оказывается неизбежным24*.
Причина высокой жизненной силы этой формы, без сомнения, в ее эротической основе. Подобный характер пасторальная форма делит с другим жизненным идеалом, с которым она при этом вступает в тесные связи: с рыцарским идеалом.
Здесь мы приступаем к рассмотрению еще одного, по сути общечеловеческого, жизненного идеала. Это идеал совсем иного рода, чем буколический: гораздо более весомый, гораздо более реальный. И прежде всего это действительно в гораздо большей степени культурный идеал. Аркадские фантазии, сколь важными ни казались бы они для развития культуры, в конечном счете остаются всего лишь элементом утонченной беседы, не более. На реальную жизнь и поступки людей все это оказывает незначительное влияние. Идея же рыцарства пронизывает всю культурную жизнь, воодушевляя государственных деятелей и военачальников. В то время как пастораль была порождением чистой ностальгии, основанием рыцарской идеи служит твердая почва общественных отношений: она приходит как форма жизни крепкого, жизнедеятельного сословия.
Рыцарство как сословие возникает в ходе развития феодальной системы, но его истоки, если брать форму жизненного уклада, лежат много глубже – в сакральных обычаях примитивной культуры14. Три важнейших элемента рыцарской жизни: посвящение в рыцари, турниры, обеты – берут начало непосредственно в древнейших сакральных обычаях. И не из-за смутного ли знания своих древних истоков рыцарский идеал уже с самых первых шагов принимает ретроспективный, мы бы даже сказали, исторический характер? Уже в своем первоначальном развертывании в качестве выраженной жизненной формы, в XII в., рыцарство являет черты некоего возрождения, осознанного переживания романтического прошлого – независимо от того, ищет ли оно его в древности, во временах Карла Великого или в первую очередь в окружении короля Артура25*.
По