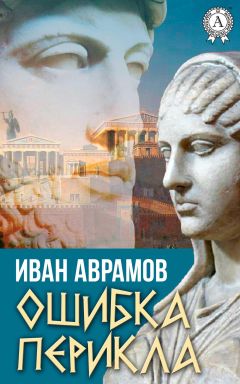Это не автобиографическое признание, а сюжет, который вполне отражал и жизненный путь адресата писателя, но куда существеннее, это сюжет, можно сказать, и из жизни Ломоносова, и целых поколений русских людей, которые в условиях ренессансных явлений русской жизни, вопреки феодальной реакции, поднимались к свету с сознанием, что в их жилах “течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая”. Это и есть возрожденческий порыв к новой жизни, и кого он коснулся, тот уже не раб, будь он и в цепях. Потому и ширилось освободительное движение в России в течение всего XIX века, находя выход прежде всего в сфере искусства и мысли.
Выбор Чехова — медицинский факультет и тут же начало активного сотрудничества в юмористических журнальчиках “Стрекоза”, “Будильник”, “Осколки” — тоже в высшей степени знаменателен; анатомия и словесность (искусство) — это две ипостаси возрожденческого миросозерцания.
Что касается рассказов Чехова, даже ранних — Антоши Чехонте, — это новеллистика эпохи Возрождения, только без эротики, безудержный юмор, если угодно, похвала глупости. Рассказы Чехов пишет шутя, с легкостью Моцарта, не ведая о том, при этом заработок, столь необходимый, — студент-медик писанием юмористических рассказов кормит всю семью — отца, мать, сестру, даже одного из старших братьев, который учится живописи, и среди его приятелей будущие знаменитые художник и архитектор Левитан и Шехтель.
Чехов быстро вырастает из юмориста в удивительного писателя — в русле художественных исканий и тенденций эпохи, вопреки жесточайшей политической реакции, установившейся после убийства Александра II и восшествия Александра III.
В 1887 году выходит его сборник рассказов под названием “В сумерках”, отмеченная Пушкинской премией Академии наук. В 1888 году он пишет повесть “Степь”, которая звучит как поэма, с картинами природы, столь же выразительными, как пейзажи Васильева и Левитана. В финале повести автор как никогда прямо выражает свое кредо и миросозерцание и, соответственно, эпохи: “… и в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!”
“Новое открытие Чеховым степи находится, — пишет исследователь творчества писателя А.Турков, — в ряду таких достижений русского искусства, как волжский цикл Левитана, пейзажи Коровина и Серова, полотна Сурикова и Нестерова. Индивидуально, своеобразно, порой фантастически опосредованно художники эти пытались уловить и выразить то, что Врубель назвал однажды “интимной национальной ноткой”, сложную связь природы, истории, национального склада и быта”.
Все верно, только нет осознания, что такое сотворчество в различных видах искусства бывает лишь в особые эпохи.
Чехов писал в письме к А.Н.Плещееву (4 октября 1888 года), формулируя не просто свою позицию, но и эстетику, куда существеннее: “Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и — только. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались”.
Нельзя точнее и полнее выразить сущность эстетики Возрождения от Леонардо и Микеланджело до Пушкина и Льва Толстого.
Современники писателя находили его похожим на Базарова, героя романа Тургенева “Отцы и дети”, знаковой фигуры эпохи, ради науки или идей готовой пожертвовать искусством, но Чехов утверждал как ренессансный тип личности и художника: “Знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага… и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет”.
В 1890 году, в 30 лет, Чехов совершает нечто неожиданное: едет на Сахалин, — избежав сам гонений, он обследует условия жизни переселенцев и ссыльных, выказывая недюжинность своей натуры, — в этой поездке он надорвал свое здоровье, словно провел свой срок на каторге.
Начинается новый период жизни и творчества, рассказы укрупняются — не по объему, а по поэтике, превращаясь то в повести, как “Попрыгунья” или “Дама с собачкой”, то в драмы, как “Чайка”, “Три сестры”, “Вишневый сад”. Переход от новеллы к драме для ренессансного писателя естественен, это родственные жанры для эпохи, когда любовь к жизни во всех ее проявлениях от литературных и живописных картин переходит на сцену, к живой игре актеров, — такова ведущая тенденция эпохи Возрождения. И недаром именно представитель купеческого сословия К.С.Алекссев, как ранее Третьяков, создавший общедоступный музей русского искусства, задумывает Художественно-Общедоступный театр, который утвердился именно пьесой Чехова “Чайка”.
“Вспомните, — писал Чехов, — что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель… Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас”.
Мы знаем, куда звал Чехов. Это у него вишневый сад рубят, старый дом предназначен на слом, а героиня довольна. И очень. “Начинается новая жизнь…” Это в точности слова из “Новой Жизни” Данте. «Здравствуй, новая жизнь!» — прорывается у Чехова.
Это умонастроение вызревало в обществе в 80-90-е годы XIX века в условиях глухой политической реакции, которая была уже бессильна подавить чувство свободы и личности, пробудившееся самосознание нации, потому что в жизнь входило совершенно новое поколение русских людей, в жилах которых текла “уже не рабская кровь, а настоящая человеческая”.
Во дни сомнений, в период работы над “Анной Карениной”, Лев Толстой взял в руки как бы случайно Пушкина. В начале своей литературной деятельности он, самоопределяясь как художник, выражал неудовлетворение прозой Пушкина, находил ее “голой” (мы бы сказали и даже считаем “детской”), чисто внешнее восприятие. Теперь Толстой, сам великий художник, изумился, сделав нечаянно громадной важности открытие. Он писал Голохвастову: “Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите с начала все “Повести Белкина”. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение.
Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но негармонических писателей(то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и, если возбуждает к работе, то безошибочно”.
Так воспринимал Пушкина Лев Толстой, сам гармонический художник в высших своих созданиях. Тут нужно говорить о поэтике. К примеру, уже сюжет “Евгения Онегина” уникален. Он так прост, между тем именно сюжет выражает весь бесконечный нравственный пафос романа. В жизни все было бы иначе(как во французских романах и в “Анне Карениной”), но мир “Евгения Онегина” — это не самая жизнь, это мир Пушкина(как у Гоголя та же русская действительность предстает совсем в ином свете), здесь все происходит не как в жизни(это непосредственное подражание жизни — сфера беллетристики, “даровитых, но негармонических писателей”), а все скорее наоборот, в соответствии с предвечным распределением предметов поэзии, и тем вернее и полнее поэт воссоздает жизнь русского общества в известную эпоху.
А что такое “Капитанская дочка”? Повесть для детей? А если взглянуть на структуру этой детской вещи? Дворянский недоросль, едва вырвавшись на желанную свободу, попадает сначала на выучку Зурину (“надо привыкать к службе”) — и это предопределило бы так или иначе всю дальнейшую судьбу Гринева: он бы привык к службе и принял бы участие в подавлении восстания Пугачева. А ведь происходит все как-то наоборот. Гринев в метель в степи (это историческая стихия, непонятная и гибельная для дворянского недоросля) встречает не просто человека, который знает дорогу, а “Вожатого”, как указано в названии главы, будущего Пугачева. А далее, когда начался бунт, Гринев должен был погибнуть, но его спасает еще и еще раз тот же “вожатый”. А почему? За заячий тулуп? Нет, между дворянином и беглым казаком установился человеческий контакт, возможный лишь в далекой исторической перспективе, что однако уже угадано инстинктом поэта. Пугачев мог спасти Гринева, но Гринев хотел бы, да не в силах спасти Пугачева, о чем и речи нет, ибо Пугачев — судьба Гринева. И “Капитанская дочка”, столь простая во всех деталях, по тону, что как будто в самый раз для детей, оказывается философской повестью, сотканной из символов, в которых Пушкин закодировал самый ход истории, неизбежность нового нравственного миропорядка.