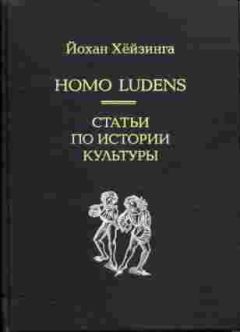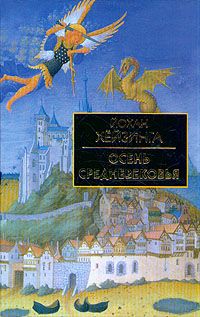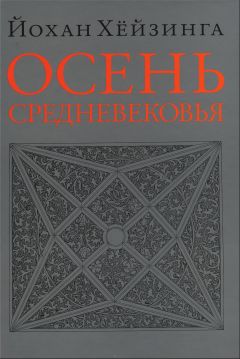науки обращаются к наблюдению, членению и собиранию воедино, как в красотах ландшафта открывается нам наличие духа; как затем появляется психологическое описание – прежде всего у Данте, Петрарки и Боккаччо; развивается жанр биографии, формируется новый взгляд на национальный характер и этническое разнообразие, и, наконец, расцветает новый идеал красоты. Кому до этого приходило в голову придавать значение для истории культуры таким вещам, как общественная жизнь, моды, любительские увлечения, праздники? Книга завершается разделом
Sitte und Rеligion [
Нравы и религия]. Здесь на первый план выступают выводы из буркхардтовских взглядов; здесь образ «ренессансного человека» обретает свои завершающие штрихи. Безграничный индивидуализм, доходящий до полной аморальности. Субъективное отношение к религии: толерантное, скептическое, насмешливое, порою прямо ее отвергающее. Язычество Ренессанса, смесь классических предрассудков и современного вольнодумства. И как заключительный аккорд – благородный платонизм флорентийцев круга Лоренцо Медичи. «Vielleicht reifte hier eine höchste Frucht jener Erkenntnis der Welt und des Menschen, um derentwillen allein schon die Renaissance von Italien die Führerin unseres Weltalters heißen muß» [«Здесь, пожалуй, достиг зрелости один из наиболее ценных плодов познания мира и человека, – уже только по этой причине итальянский Ренессанс должен быть назван ведущей силой эпохи»].
Так понятие «Ренессанс» полностью обретает свое значение. Постепенно идея Буркхардта выходит далеко за пределы тех кругов, которые прочли его книгу. Вместе с тем эта идея, как оно всегда и бывает, будучи лишена всех подробностей, вдохнувших в нее столько жизни и в то же время определивших ее неповторимость, была огрублена, усечена или расширена теми, кто ее принимал. Буркхард заставил человека Ренессанса предстать пред ликом времени подобно одному из великолепных грешников Ада25*, демонического в своей непреклонной гордыне, самодовольного и дерзкого, uomo singolare [отдельного человека]. Эта отдельная фигура и стала тем, что в его книге приковывало воображение дилетантов. Понятие «ренессансный человек» стали связывать с представлениями о приятии жизни, о господстве жизни. В этом образчике ренессансной культуры были склонны видеть свободную гениальную личность, возвысившуюся над доктринами и моралью, надменного, легкомысленного человека, искателя наслаждений, который в языческом вожделении к красоте безудержно рвется к власти, чтобы жить согласно своим собственным нормам. Артистизм заканчивающегося XIX в. уловил отзвук своих собственных желаний в этой причудливой картине исторической жизни. И даже излюбленный «мятежный дух», в наиболее острых случаях этой путаницы понятий, вторгался в представление об образе Ренессанса. Во всем этом не было вины Буркхардта. Спетую им мелодию последующее поколение постаралось оркестровать в духе Ницше, который, как известно, был учеником Буркхардта26*.
При том что во многих умах поверхностные преувеличения зачастую заслоняли тот богатый образ, который был им предложен, исследования в области искусства и культуры не остановились с появлением книги Буркхардта. Произведение, столь решительно построенное на одной концепции, неизбежно будет односторонним. Слабые стороны исходного тезиса Буркхардта не могли так или иначе не обнаружиться.
Вглядываясь в мощный рассвет итальянского кваттроченто, Буркхардт оказался неспособен более подробно разглядеть то, что лежало за ним. Вуаль, которая скрывала от его взора дух Средних веков, частично была вызвана изъяном его собственной оптики. Он слишком заострял контраст между жизнью в Италии позднего Средневековья – и вне ее. То, что юный блеск Ренессанса озарял подлинно средневековую народную жизнь, продолжавшуюся в Италии в тех же формах, что и во Франции и в землях Германии, столь же ускользало от него, как и то, что новая жизнь, чей приход он приветствовал в Италии, проявлялась также и в других странах, где он не мог отметить ничего, кроме векового гнета и варварства. Он знал слишком мало о громадном разнообразии и великолепии средневековой культуры за пределами Италии. В результате пространственные границы возникновения Ренессанса были очерчены им слишком жестко.
Еще больше материала для критики дал Буркхардт своими временны́ми рамками Ренессанса. Полный расцвет индивидуализма, бывшего для него сущностью Ренессанса, он датировал примерно 1400 г. Несомненно, значительнейшая доля обильного материала, которым он иллюстрирует свою точку зрения, относится к XV и первой четверти XVI в. Все, что происходило до 1400 г., было для него лишь предзнаменованием, ростком надежды. Место, которое он отводил Данте и Петрарке, было все еще местом «предшественников» Ренессанса, так же смотрел на них и Мишле, а в некоторой степени и Вольтер. Но понятие «предшественников» веяния или движения в истории всегда очень опасная метафора. Данте – предшественник Ренессанса. Точно так же я мог бы назвать Рембрандта предшественником Йосефа Исраелса27*, более или менее справедливо, – правда, за мной никто не последовал бы. Определяя кого-либо как предшественника, мы выхватываем его из его эпохи, внутри которой он может быть понят, и тем самым разрушаем историю.
Исходя исключительно из своей концепции индивидуального как сущности Ренессанса, Буркхардт был вынужден приветствовать его проявление во всем, что так или иначе выделялось на невзрачном для него фоне средневековой культуры. Декоративное искусство Космати (XII в.), тосканская архитектура XIII в., живая, мирская и классицистская поэзия сборника Carmina Burana (XII в.) становятся для него Проторенессансом28*. Это распространяется не только на искусство, но и на человеческий характер. На каждого человека Средневековья, представляющего собой выдающуюся личность, бросает свои лучи маяк Ренессанса. «Schon in viel früheren Zeiten gibt sich stellenweise eine Entwickelung der auf sich selbst gestellten Persönlichkeit zu erkennen, wie sie gleichzeitig im Norden nicht so vorkommt oder sich nicht so enthüllt. (Это вовсе не так: норвежские саги29* дают неповторимую картину индивидуальностей.) Der Kreis kräftiger Frevler des 10. Jahrhunderts, welcher Liudprand schildert, einige Zeitgenossen Gregors VII, einige Gegner der ersten Hohenstaufen zeigen Physiognomien dieres Art»28. [«Уже в значительно более ранние времена тут и там дает о себе знать развитие личности, ориентированной на самое себя, чего в Северной Европе либо не происходило вовсе, либо не происходило на том же уровне. <…> Чреда отважных преступников Х столетия, описанных Лиудпрандом, некоторые из современников Григория VII и кое-кто из тех, кто противостоял первому из Гогенштауфенов, являют нам характеры такого рода»]30*.
Линию Ренессанса таким образом можно вести к истоку без всяких препятствий. Следствием этого – что уже видел Мишле – была тенденция всякое пробуждение новой интеллектуальной жизни, новых взглядов на жизнь и на мир в Средневековье отмечать как зарю Ренессанса. Для этого фактически нужно было опираться на полуосознанный постулат, по сути принятый доктриной Мишле, что сами по себе Средние века были мертвой вещью, сухим стволом.
Было и вправду выведено заключение, что Ренессанс постоянно восходит к чему-то предшествующему. Корни Ренессанса выискивали Эмиль Гебар, Анри Тод, Луи Куражо, Поль Сабатье. До