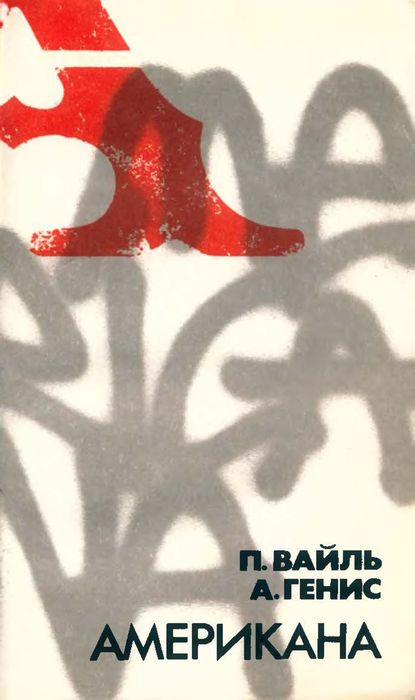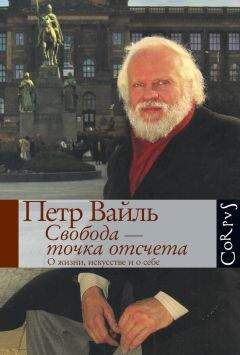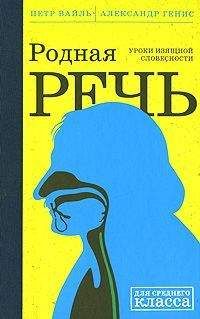Еще мягко порекомендуют принять душ, но если бродяга сочтет мытье излишеством, с ним спорить не станут.
В ночлежке можно смотреть цветной телевизор, играть в карты, молиться, читать. Нас как людей, отмеченных интересом к кулинарии, естественно занимал вопрос питания. Вся Бауэри уставлена заведениями, где чистоплотные добровольцы из Армии спасения угощают бродяг знаменитой бесплатной похлебкой. Чтобы ее получить, опять-таки нужно только протянуть руку. Именно это мы, смущенно хихикая, и сделали, всем своим видом показывая, что похлебка нам нужна только в исследовательских целях. (Видели бы нас друзья из России, которые уверены, что мы вылезаем из спортивных «Ягуаров» только для того, чтобы нырнуть в собственный бассейн.)
В пластмассовом стаканчике плескался густой куриный суп, заправленный изрядным набором овощей — сельдерей, морковка, зеленая фасоль, ямс, кукуруза. К горячей похлебке прилагался кусок хлеба с маргарином. На столе рядом стояли соль, перец, кетчуп. По вкусу еда была ничуть не хуже, чем та, которой кормят в стандартной американской обжорке. И съесть ее можно было хоть ведро — был бы аппетит.
Обеспечив себе хлеб и кров, бродяга с Бауэри приступает к тому, ради чего он пошел в бродяги. Как и у нас на родине, их день начинается с открытия винных магазинов (в будни — с восьми, а в воскресенье — зубы на полку). Мелочь они сшибают с неопытных автомобилистов, заехавших на Бауэри случайно, по пути в Чайнатаун [26]. Потрут им стекло грязной ветошью или так постоят с жалостливым видом рядом со светофором. Собрав нужную неровную сумму, несут ее в магазин, а дальше по произволению: в дождь устраиваются под мостом, в вёдро — где придется.
В той экологической системе, которой является любое общество, люмпены представляют наглядную альтернативу. Отправившись на Бауэри, каждый может увидеть, что происходит с детьми, которые не слушаются взрослых, и что происходит со взрослыми, которые не хотят упорно трудиться.
Во все времена, во все эпохи существовали такие люди. И в любом обществе они жили на его дне.
Но отношение к бродягам, предпочитающим праздность труду, было разное. В античности их, например, называли философами. Право на труд тогда отнюдь не казалось такой уж безоговорочной привилегией. Древние греки лелеяли своих бродяг, видя в них представителей заманчивого, хоть и нелегкого образа жизни. Когда малолетний хулиган разбил глиняную бочку Диогена, афиняне купили ему новую. Тогда еще не было Бауэри, но власти уже заботились, чтобы у горожан были свои прИзираемые (не путать с прЕзираемыми — эти есть всегда).
Люди, сознательно лишившие себя собственности, более склонны к философскому взгляду на вещи, чем те, кто старательно окружает себя этими вещами. Не зря Сократ утверждал, что бездеятельность — сестра свободы. И знаменитые слова «человек — это звучит гордо» произнес шулер и пропойца Сатин, герой вольнолюбивой пьесы Горького «На дне».
В Америке, где свободе поклоняются уже третье столетие, бездомные нищие выражают идеалы страны. Пока рядовые граждане честно трудятся, бродяги берут на себя функцию защитников той абсолютной свободы, наслаждаться которой может только философ, святой или алкоголик.
Естественно, что общество обязано оказывать помощь этим мужественным борцам. И если оно не ставит им памятников, вроде того, что соорудили на могиле Диогена эллины, то хоть накормит похлебкой. И потом, на чьи головы снисходило бы наше рождественское благодушие, если бы в Нью-Йорке не было «дна»?
О МАНХЭТТЕНСКИХ РУИНАХ
Мы, оглядываясь, видим лишь руины.
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Иосиф Бродский
Главная претензия, которую мы сразу предъявили Нью-Йорку, заключалась в его непростительной молодости. Тогда, правда, мы и сами были моложе, а значит, категоричней и требовательней.
Мы считали, что городу приличествует благородная седина, а не мельтешение небоскребов. Счет должен идти в лучшем случае на тысячелетия, в худшем — на века, но уж никак не на десятилетия.
Привыкнув в своих рижских пенатах к настоящей готике, мы не хотели удовлетвориться ее скоропалительным подобием в облике нью-йоркских церквей.
Больше всего нам, пожалуй, не хватало архитектурных переживаний. Того трепета, который охватывает современного человека при виде каменной плиты с надписью «Anno 1315».
В Риге этого добра хватало, и мы им пользовались вовсю. Даже юношеские попойки мы аранжировали таким образом, чтобы стаканы поднимались на фоне стремительных готических шпилей или кудрявых барочных фронтонов.
За прошедшие годы Нью-Йорк, в отличие от нас, постарел несильно. Но мы научились немножко разбираться в его хронологии — все же этот город постарше Питера. Потихоньку мы откатывались из хаотического Бруклина к самой старой нью-йоркской окраине. Пока не добрались до того дерева, под которым голландский негоциант совершил свою жульническую сделку, купив у индейцев Манхэттен.
Мы живем в самой северной точке нашего острова, в Вашингтон-Хайте. Район этот имеет мало отношения к блеску Пятой авеню и всему тому, что провинциалы считают Нью-Йорком. Более того, поскольку по дороге домой нам надо миновать Гарлем, считается, что жить здесь опаснее, чем в Синг-Синге [27].
На самом деле Вашингтон-Хайте — довольно тихое захолустье. Свой звездный час он пережил во время упомянутой коммерческой операции. Некоторую славу ему принес генерал Вашингтон, который и здесь воевал англичан. Потом — Генри Киссинджер, окончивший тут среднюю школу. И уже совсем потом в наших краях поселились русские евреи.
Сейчас и их осталось немного. Преуспеяние в американской жизни почти наверняка связано с переездом в пригород. Но до сих пор если за окном слышны голоса, то звучат они по-русски. Мы сперва объясняли это эмигрантской многочисленностью, а потом сообразили, что просто наши говорят громче.
Что в Вашингтон-Хайте поразительно, так это огромные и невообразимо дикие парки. Собственно, это просто куски леса, которые не застраивались со времен индейцев. А от их вигвамов, естественно, ничего не осталось. Лес этот так дремуч, что мы невозбранно жарим тут шашлыки, собираем ландыши и наблюдаем фауну, представленную зайцами и фазанами.
В 30-е годы до нашей окраины дотянул свои щупальца известная