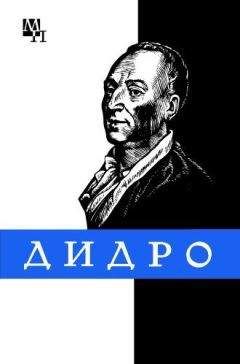Но дело не только в эстетике. Все это, милый дедушка, псевдонимы более широких понятий. Обратите внимание, прошу вас, на тезисы видного представителя нового, младомарксистского направления — Эрнста Фишера, напечатанные в приложении к итальянскому журналу «Ринашита» / № 2 за 1965 год/. Вопрос здесь ставится шире, и проблема видения растет на наших глазах. В тезисах Фишера много верного, но то, что верно, не так уж ново, а то, что автор прибавил от себя — весьма сомнительно. Так, например, он совершенно отделяет научную истину от классовой борьбы, что по меньшей мере расходится с лучшей и совсем не догматической марксистской литературой. Существо этого вопроса я здесь разбирать не буду, потому что нас с вами, дедушка, другое интересует.
Нас интересуют в данный момент выводы из уроков. Хотите знать, что такое догматизм? По мнению Эрнста Фишера, это превращение марксистских идей в «идеологию» и притом религиозную, для завоевания широких масс. Ну, допустим, хотя такой анализ этого явления все равно что слону дробина. Эрнст Фишер строго судит нашу с вами жизнь, милый дедушка, и я с волнением ждал, что он в конце концов скажет, как мы должны ее строить, чтобы она сияла подобно звезде, ведущей путника. Однако в части выводов автор сугубо темен. Он предлагает создавать «конкретные видения социалистического общества» и чтобы в этих «видениях» светилось больше заманчивой свободы и развития личности. Последнее мне нравится, уважаемый Константин Макарыч, но почему «видение», а не что—нибудь более реальное? Я этого не понял, пока не прочел комментарии самого Эрнста Фишера в австрийском коммунистическом журнале «Вег унд Циль» /1965 г., июль—август/.
Оказывается, милый дедушка, дело обстоит не так просто. «Марксизм, — пишет Эрнст Фишер, — объединяет науку и утопию, откуда некоторые интеллектуальные трудности. Известная формула — «от утопии к науке» — может запутать нас, ибо марксизм не исключает утопию, недосказуемое видение будущего, он означает снятие утопии его собственным делом и в нем самом».
Итак — поправили Энгельса, заменили приблизительно верную картину будущего «недосказуемым видением». Бывало, конечно, что коммунизм называли утопией, но это уже в ругательном смысле, а Эрнст Фишер говорит о «коммунистической утопии» с полным уважением. И чтобы вы не думали, Константин Макарыч, что он просто неосторожен в выборе слов, я должен вам сообщить удивительное известие. С точки зрения Фишера, марксизм является «научным фундаментом утопии», мало того — он заключает в себе «идеи, выходящие за пределы науки». Полнота жизни, туманность, идеал цельного человека — все это, по мнению Фишера, лежит где—то за пределами ума, в трансцендентном мире и постигается нутром, при помощи «видения», а не мыслящей головой.
Призывая на помощь все мое доброжелательное отношение к талантливому писателю, я ищу на дне этой фантазии реальную мысль. Если Эрнст Фишер хочет сказать, что мировоззрение марксизма не сводится к деревянным абстракциям наукообразного типа, то нам с вами, дедушка, это давно известно. Ведь мы себе, можно сказать, об эти вульгарные схемы до крови бока ободрали, так что имеем право о них судить. Но Фишер не знает или не хочет знать, что «выходящие за пределы науки», необязательные фразы о человечестве, гуманности, романтике будущего и прочих идеалах прекрасного уживаются с любым догматизмом. Взгляните на опыт жизни, перелистайте старые газеты и книги. И если теперь, во имя борьбы со старым, превратить все это краснобайство в прямую утопию, то есть внести «недоказуемое видение» в основной закон марксизма, то это будет лишь модернистское обнажение приема, а не действительный шаг вперед. По—моему, милый дедушка, что ел, что кушал — все едино, а лицемерное или открытое мифотворчество, какая разница?
Живая марксистская мысль потому и невыносима для догматической лжеортодоксии, что это не добренькая гуманная фраза об идеале, а вполне реальный, критический и научный взгляд на то, что есть, и то, что должно быть, задевающий жизненные интересы людей. Ведь большинству людей утопии не нужны — они могут насытить ими свою потребность в материальном и культурном развитии. Одно из двух: коммунизм не утопия или не надо людям морочить голову.
Поэтому мне больше нравится старая формула — «от утопии к науке», хотя я понимаю, что даже основанная на понятии исторической необходимости картина будущего может обманывать нас. Здесь еще легче ошибиться, чем при изучении текущих дел уже совершившихся процессов. Желаемое часто принимается за действительное, более отдаленное — за ближайшее. Известно, что люди революционного образа мысли склонны ошибаться в отношении сроков предсказываемых ими событий, а эти события не приходят завтра или послезавтра, как хочется это людям. Когда же они наконец приходят, потому что необходимость, если она верно понята, свое возьмет, то все это уже совершается при новых условиях и по—другому. Короче говоря, любое предвидение будущего, даже самое верное, сначала бывает абстракцией, которая должна наполниться конкретным содержанием истории.
И люди часто ошибаются, милый дедушка, даже наука не может дать им полной гарантии. Одна из возможных ошибок — готовность переоценивать свои силы, свою историческую среду, своих современников. Значит, чтобы верно предвидеть, нужно предвидеть и эти ошибки. Недаром классики марксизма писали о долгих муках родов нового общества, а Ленин особенно подчеркивал, что это новое общество опять—таки есть абстракция, которая воплотится в жизнь не иначе, как через целый ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток построить то или иное социалистическое государство.
Жаль, что оно так. И тяжело, и больно, хотелось бы полегче, поудобней, и кажется, семьдесят Марксов не могли бы предвидеть все зигзаги этого пути. Но я замечаю, милый дедушка, что вы усмехаетесь себе в бороду: «У меня нет для вас лучшей истории, если эта не нравится — делайте другую. Ну, покажите, на что вы способны, сделайте хоть шаг. Это трудно? Еще бы. Труднее ничего на свете нет. А чем больше люди привыкли к известной рутине, чем больше они робеют перед ней, тем приятнее им всякие утешительные мифы и недоказуемые видения».
Эрнст Фишер говорит: «Для народов высокоразвитых капиталистических стран социализм в том осуществлении, которое он до сих пор имел, — не образец». Это звучит гордо, милый дедушка, но пусть автор поставит себя на место тех людей, которые живут, если можно так выразиться, в самых муках родов. Ну помогите им, что ли, разобраться в их собственном опыте, поддерживайте все лучшее, будьте беспощадны к своей критике, уточняйте предсказанную ранее картину будущего — у вас много возможностей. Не делайте только одного — не обращайтесь к этим людям с призывом развивать «коммунистическую утопию». Вы дарите им букет фальшивых цветов.
Ошибки и дурные дела нужно исправлять земными, реальными средствами, не превращая нашу картину будущего в «недоказуемое видение». Это было бы самым жалким выводом из уроков жизни. Такие выводы всегда считались делом религии — это она утешает людей призрачным счастьем. Однако насчет религии у Эрнста Фишера имеется своя идея.
«Итак, все—таки — веяние религии в марксизме? — спрашивает он самого себя. — Не надо расширять понятия до неопределенности. Если мы отождествляем религию с «океаническим чувством», с «трансцендентностью», с переходом границы еще—не—существующего, то быть «религиозным» — это сущность человека. Но постараемся держаться разграничительных определений. Человек, существо несовершенное, вечно незаконченное, подобен не кругу, а параболе. Он, это воплощение неразрешимого противоречия между индивидуальностью и всеобщим, нуждается в видении целого, единства, бесконечного воссоединения с самим собой. Религия переносит это состояние в потусторонний мир, марксизм — в посюсторонний, как бы ни было оно далеко от нас или недостижимо. Для религии целое как средоточение всего, есть божество а для марксизма это — человечество».
Ну вот, милый дедушка! Провели необходимое разграничение. Построили новую религию, религию без бога — человекобожие, состоящее в созерцании собственного несовершенства и в бессильной мечте о недостижимом счастье. Эрнст Фишер берет слово «религиозный» в кавычки, это значит, что он не признает старых богов различной масти, а только пегого полубога в лице человечества.
Не будем, конечно, придираться к словам, не в словах дело. А дело в том, что нельзя реальные в своей исторической конкретности заботы и горести людей заслонять вечным несовершенством человеческого рода. Представьте себе врача, который в графе «диагноз болезни» напишет — человек смертен. Оно, конечно, не лишено основания, но такие сентенции более уместны в устах священника, чем врача.