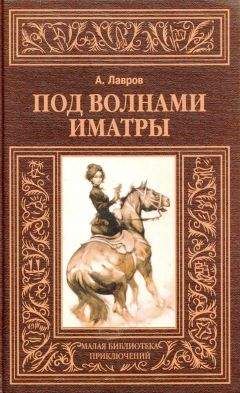Грифиусу рисуется страшный образ ада, о котором нельзя рассказать ясно и членораздельно. Флеминг уводит к картине блаженства, где у времени будет отнято и время, и безвременье, а у «нас», людей», — наше «мы». У Лоэнштейна время царит над всем, но любовь и добродетель по крайней мере могут смешивать его карты. Наконец, Йоанн Шеффлер в своих эпиграммах взлетает так далеко, что его, в его диалектической гордыне, не может достигнуть обычный человек с его «ты»:
Вечность.
Коль скоро вечность кажется тебе дольше, чем время,
Так ты говоришь о муках, а не о блаженстве.
(II, 258)
Поднявшийся на свои вершины, поэт уже не различает время и вечность, начало и конец, смерть и жизнь. Наступает пора всяческих отождествлений, слияний всего в одно:
Сущность не измерить:
Нет ни начала, ни конца,
Ни центра, ни окружности, как ни стараюсь.
(II, 188)
Вечность.
Что такое вечность? Не это и не то,
Не теперь, не что, не ничто, она — не знаю что.
(II, 153)
Вечность не измерить.
Вечность ничего не ведает о годах, днях, часах:
Ах, я еще не нашел средоточия!
(И, 65)
В вечности все происходит одновременно.
Там, в вечности, все происходит одновременно,
Нет ни «до», ни «после», как здесь, в царстве времени.
(V, 148)
Душа — над временем.
Душа, вечный дух, — над всяким временем:
И уже в мире она живет в вечности.
(V, 127)
В основе все едино.
Говорят о времени и месте, а теперь и вечности:
Что тогда время и место, теперь и вечность?
(I, 177)
Время — вечность.
Время —* как вечность, и вечность — как время,
Если ты сам не будешь делать различий.
(I, 47)
Время и вечность Ты говоришь: перенесись из времени в вечность:
Но есть ли различие между временем и вечностью?
Пламенный духовный порыв немецкого мистика из Бреслау, казалось бы, оставляет далеко позади себя всякую реальную ситуацию исторического человека своего времени; между тем антитетическая структура эпиграмм Шеффлера насквозь пропитана духом барокко, а изощренная парадоксальность этого католика, переросшего в католицизм из протестантства, хитроумная и сознательная противоречивость его высказываний, их невероятная смелость с точки зрения догматического учения, все бурление неутомимого духа, все его легкое парение на ступенях иерархии духовного смысла — все это по-своему отражает ситуацию человека эпохи барокко, всю ее безысходность: нет ничего твердого, нет ничего устойчивого, время тает в вечности, вечность в безвреме-ньи, безвременье в мимолетности момента… Однако не может не казаться, что то, что не перестает до глубины души поражать его современников — вечность и время, для духа, однажды пораженного вечностью, осталось чем-то пройденным: в кристальном очищении, просветлении и успокоении души перед Богом нет места для непосредственного ощущения страха и беды. Шеффлера уносит другой поток, для которого нет, собственно, слов:
Ich weiß nicht, was ich bin, ich bin nicht, was ich weiß,
Ein ding und nicht ein ding, ein stupfchin und ein kreiß.
Не знаю, что я есмь, я есмь не то, что знаю,
Вещь и не вещь, капля и круг.
(I, 1)
Не знаю, что мне делать! Мне все одно:
Место, не-место, вечность, время, ночь, день, радость и боль.
(I, 190)
В этом вихре мистической стихии Шеффлер заглядывает в такие области, где ему трудно отдать отчет в «увиденном» и где исходная «экзистенциальная ситуация» человека, напрягаясь до крайности, пытается приподнять завесу, закрывающую грядущую гибель вечности. Если «я» многократно расслаивается, то вот уровень, который поднимается и над самым высшим и конечным «я» и над Богом:
Где мое пребывание? Там, где не стоим я и ты:
Где последний мой конец, куда я пойду?
Там, где никого не найти. Так куда же мне?
Мне должно отправиться еще сверх Бога в пустыню.
(I, 7)
Мало того что человек и Бог соотнесены и что без «меня» Бог не может жить ни мгновения (I, 8), — ничто, даже червяк не может быть создан Богом, если «я» не буду содержать его вместе с Богом.
Конечно, «Бог как Ничто» — вполне в кругу традиционной мистики. Но от того, что эта тема живет долгие века в мистических кругах, она не перестает быть исторически значительной: именно известные тенденции исторического, особенно в эпоху, близкую к внутренним — да и внешним — переворотам и потрясениям, в эпоху, до Крайности напрягшей полярность человека и мира, человека и Бога, человека и времени, могут усматриваться и предусматриваться именно мистической традицией; гибнет вечность, но ничто, стоящее — или стоявшее — за вечностью, уже готово: оно предуготовано, только теперь оно уже занимает передний план. История ловит поэтов и мистиков на слове — там, где в своем порыве они достигают почти невыразимого: там у них вырывается роковое слово…
И вот:
Ничто есть лучшее утешение. Лишит ли Бог Своего сияния:
Так простое Ничто будет утешением в безутешности.
(И, 6)
Наконец, если Шеффлер говорит, что с Богом хорошо даже в аду, то здесь мистическая мысль занесла его в такое место, куда его не должны были бы пускать никакие уступки парадоксальному. Дело в том, что такое высказывание лишено всякой осмысленности, пока в теологическую картину времени, обязательную для всей эпохи, не внести каких-то изменений. Что такое Бог? что такое ад? — если с Богом можно быть в аду? Самодовлеющее, самоценное «я», которое начинает поглощать весь мир и создавать изнутри себя нового Бога, новых богов, новое время, новый ад и т. д., прорывается в минуту наибольшей смелости: оно оказывается перед лицом Ничто:
Кто соединился с Богом, того Он не может проклясть,
Или же сам низвергнется с ним в смерть и пламень.
(I, 97)
Одно содержит другое.
Богу так же нужен я, как мне — Он.
Я помогаю Ему хранить его сущность, а он мне — мою.
(I, 100)
Таковы исторические «перспективы» единения с Богом: единение вырисовывается как чистое противостояние, на месте Бога остается ничто.
После головокружительных высот Шеффлера обратимся к более простому, но не менее значительному материалу.
Не меньшая заслуга сохранить простое достоинство духа среди раздирающих душу противоречий. Талантливейший Йоаннес Рист из города Ведель в Голыцтинии, основатель поэтического ордена «Лебедь на Эльбе», создал две духовные песни, в которых изображается соответственно вечность как вечность мук и вечность как вечность блаженства: «Весьма суровое и подробное рассмотрение грядущей бесконечной Вечности» и «Радостное и хвалебное песнопение, в котором подробно описывается несказанное великолепие небесного Иерусалима, а также сердечнейшее стремление к нему верующих душ». Состоящие каждая из 16 строф одинакового строения, они написаны в параллель друг к другу. При этом обнаруживается, что вечность есть в собственном, в настоящем и затрагивающем человека смысле — вечность вечных мук — безвременье; тогда как вечное блаженство приводит, скорее, к описанию и перечислению, чем к сосредоточению на вечности, так что нечто безотносительное к поэту сообщается, когда говорится, что «величайшее счастье видеть нашего Бога в вечности». Первая же, хорошо известная песнь исполнена страха и тревог, и поэту не приходится занимать красноречия и пользоваться искусственными приемами: насколько поэзия XVII века может иметь личный смысл и насколько содержание может быть пережито изнутри, это происходит у Риста.
Именно здесь немецкая поэзия барокко приходит к наиболее полной, а вместе с тем и лаконичной характеристике «экзистенциальной» ситуации человека. Эту характеристику хотелось бы также назвать предельно точной. В сфере образа, связующей поэта и действительность, слова стоят на своих местах словно поставленные здесь от века. Все это сразу же полагает непреодолимые препятствия для перевода.
Возьмем первую строфу:
О Ewigkeit / du Donner Wohrt /
О Schwerd / das durch die Seele bohrt /
О Anfang sonder Ende /
О Ewigkeit / Zeit ohne Zeit /
Ich weiß für großer Traurigkeit
Nicht wo ich mich hinwende!
Mein gantz erschrocknes Herz erlebt /