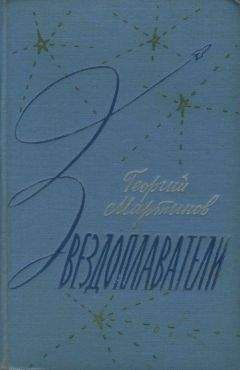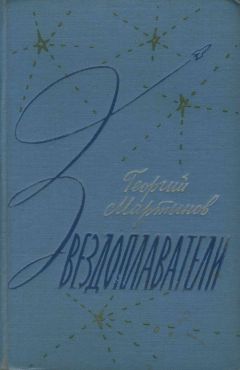В этом плане книга Бушуева тоже дает немалый материал для размышления. Прежде всего, для шестидесятничества характерно почти полное игнорирование взглядов «левой оппозиции», не говоря уже о работах Льва Троцкого, написанных в годы эмиграции. Внутренние противоречия нэпа не были ни осознаны, ни осмыслены. Прекрасно помню, что для шестидесятнических споров на московских и ленинградских кухнях было, несмотря на общую симпатию к Ленину, типично признание: «значения демократии для социализма Владимир Ильич недооценил». Однако при этом как-то упускалось из виду, что именно переход к нэпу сопровождался окончательным формированием авторитарной структуры (запрет фракций в партии, ликвидация оппозиционых социалистических партий, стремительный рост бюрократии, превзошедший времена «военного коммунизма»). Корни сталинизма искали то в «марксистском догматизме», то в отсталости России, то в византийских традициях православия, но никак не в безоговорочно идеализируемом нэпе. Отсюда, кстати, изначально позитивная оценка рыночных реформ и крайне негативное отношение к «антитоварным» лозунгам классического марксизма.
На фоне бюрократического централизма того времени интерес к рынку был вполне закономерен и в определенном смысле правилен. Но результатом такого подхода было совершенно некритическое отношение к рыночным отношениям и полное непонимание, чем вообще Маркс и Ленин были недовольны в товарной экономике.
Шестидесятнический подход к истории был скорее оценочно-моралистическим, нежели диалектически-аналитическим. Это очень хорошо видно и в книге Бушуева, где событиям и людям постоянно дается моральная оценка. Но даже если эти оценки полностью разделяешь, все равно остается куча вопросов совершенно другого характера. Бушуев постоянно подчеркивает наличие в истории «развилок». Это революция 1917 года, это переход к нэпу, сталинский «великий перелом», хрущевская «оттепель» и, наконец, «перестройка», воспринимая как утерянный последний шанс советского общества. Однако проблема не только в том, как вели себя люди, оказавшиеся на развилках истории, но и то, с каким багажом и откуда они туда пришли. Относится это и к самим шестидесятникам, как, впрочем, и к любому другому поколению.
Проблемой шестидесятнической культуры было то, что, выступая против капитализма и сталинистской версии коммунизма, она сама базировалась на идеях и концепциях, считавшихся самоочевидными в тех самых идеологиях, которые шестидесятники критиковали. Другого материала просто не было. Можно было опираться только на официальные тексты, доступные в советских библиотеках. А это либо произведения классиков марксизма и официальных советских обществоведов, либо труды прогрессивных либеральных историков и публицистов XIX века. Социологической теории в распоряжении шестидесятнической мысли практически не было, зато культурологии было хоть отбавляй. Побочным эффектом этого расклада стала безоговорочная идеализация Запада, сочетавшаяся с поверхностной критикой капитализма.
Западная Европа выглядела свободным и демократическим сообществом на фоне косной и авторитарной России. При этом, однако, можно было, не чувствуя ни малейшего противоречия, воспевать лубочный коллективизм и общинность русского человека. Корень бед полагалось искать то в византийском православии, то в монгольском иге. Аналогичные представления находим мы и у Бушуева.
Наша проблема в том, размышляет он, «что мы приняли христианство в его восточной, византийской ипостаси, а жить с петровских времен пытаемся, беря за образец для подражания нормы и установления, рожденные на почве западного, римского христианства, западной культуры» (с. 22). Мы не можем считать себя европейцами «в силу наших психологических, ментальных, духовных особенностей, усваиваемых с молоком матери традиций», связь с Европой мы «утратили со времен ордынского ига» (с. 23). И тут же автор с восхищением пишет про присущие именно русской культуре «общиные формы, которые позволяют людям ощутить дух коллектива… то, что некоторые именуют соборностью». Все эти замечательные черты русские несут «в наследственном генофонде» (с. 24). Жаль только, непонятно, куда все эти замечательные черты подевались в годы ельцинской приватизации и почему их совершенно не видно, например, у героев драм позднего Островского или у героев Чехова? И откуда вообще у отечественных интеллектуалов — даже лучших из них — эта удивительная вера, будто мы имеем какую-то особую монополию на коллективизм? Помню, еще в студенческие годы мои сокурсники, столкнувшись с западными сверстниками, удивлялись именно их коллективизму. Сами они, воспитанные в духе советского двоемыслия, только и мечтали о том, чтобы куда-нибудь подальше спрятаться от коллектива.
Между тем уже в конце XIX века русские историки начали подвергать критике подобный взгляд на русское прошлое (достаточно вспомнить не только Покровского, но и куда более консервативного Платонова). Вольность в России задушена была отнюдь не монголами и уж тем более не византийскими греками, а модернизаторами-западниками, начиная с Ивана Грозного, и заканчивая Романовыми. А с другой стороны, просто невозможно представить себе европейскую историю и культуру без «русского вклада», без Достоевского, Чехова, без Петербурга и, кстати говоря, без Ленина.
Ограниченность «шестидесятнического» взгляда на историю, однако, не отменяет той роли, которое это течение сыграло в нашей общественной мысли. На фоне откровенного предательства одних его представителей и деморализации других книга Бушуева воспринимается почти как подтверждение старой присяги, как декларация верности принципам, которые достойны того, чтобы за них бороться. В конце концов, именно «оттепель» положила начало бурным дискуссиям о будущем социализма и демократии в нашей стране. Было бы безумным расточительством просто сдать «шестидесятническую» традицию в музей или отдать ее правым идеологам, которые видят в ней нечто вроде «недозрелого» и не осознавшего себя либерализма.
Подводя итоги книги, Бушуев снова подтверждает свою приверженность социалистическому идеалу, который не стал ни хуже, ни менее актуален на фоне краха советского эксперимента. «Перефразируя слова главного героя знаменитого фильма „Девять дней одного года“, можно сказать, что из ста возможных способов строительство социализма человечество (и наш народ как его составная часть) испытало лишь один и признало его негодным. Ну что ж, осталось еще 99, и люди все равно будут искать новые пути к социализму, искать истину» (с. 610).
Ссылка на культовый фильм все тех же 1960-х мало что скажет современному молодому радикалу, воспитанному скорее на картинах Годара (если не Тарантино). Но мысль будет ясна, близка и понятна. Для сегодняшних левых традиция «шестидесятничества» остается вполне своей. А главное, как показывает книга Бушуева, — по-прежнему живой.
Борис Кагарлицкий
Ханс Ульбрих Гумбрехт. В 1926: На острие времени. Игорь П. Смирнов
Пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 568 с. Тираж 2000 экз. (Серия «Интеллектуальная история»)
Месть фараона
Хансу Ульриху Гумбрехту нельзя отказать в меткости историографической интуиции: выбрав предметом изучения 1926 год, он попал в самую гущу кризиса, который разразился в евроамериканской культуре, развивавшейся после Первой мировой войны. О переломе, случившемся в этот момент, речь пойдет позднее. Пока же следует отметить, что сам Гумбрехт путается в мотивах, определивших его исследовательское решение. То он утверждает, что держал в памяти смерть бабушки и дедушки, последовавшую в 1926-м (с. 483). То опровергает себя, смещая дату их кончины (с. 546). То выражает надежду, что читатель, несмотря на всю субъективность и случайность авторских интересов, все же извлечет из предлагаемой ему книги важные знания об эпохе двадцатых в целом (с. 484). Противоречивость пронизывает не только признания Гумбрехта по поводу того, каков был замысел его работы, но и всю ее — от начала до конца.
В первой части книги Гумбрехт постарался преподнести свой материал в репортажной манере — так, как если бы историк был соучастным созерцателем [«a participant-observer» (с. 186 оригинала)] воссоздаваемых событий. Перед нами принципиально не упорядоченный, не иерархизированный автором обзор явлений, которые притягивали к себе внимание тех, кто жил в 1926 году. Всеобщая забастовка в Великобритании, воскресившая веру Троцкого в мировую революцию (впрочем, брошюру «Куда идет Англия?» он издал уже в 1925-м), значит для Гумбрехта столько же, сколько и мода на изнурительные шестидневные гонки на велотреках. Сомнение Карла Шмитта в правомочиях Лиги Наций (которое, стоит подчеркнуть, вскоре легитимирует национал-социалистическую юстицию и освятит законодательную волю фюрера) поставлено в один ряд с такими фактами, как разбивка садов на крышах американских небоскребов или сенсационный матч на первенство мира среди боксеров-тяжеловесов. Калейдоскопически сменяющие друг друга описания океанских лайнеров, баров, кинодворцов, ревю и многого иного увлекательны. То, что Гумбрехт вводит в наше поле зрения не только европейскую и североамериканскую, но и латиноамериканскую культуру, заслуживает приветствия. Картина, которую набрасывает Гумбрехт, как будто беспристрастна, и ее широкий геокультурологический охват поддерживает это впечатление. Оно обманчиво.