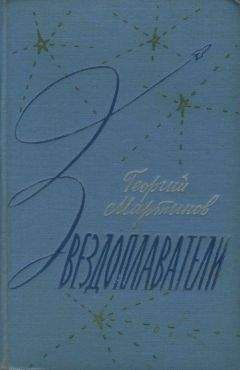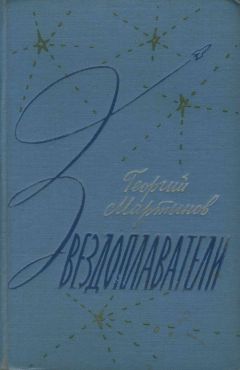В одной из начальных глав книги нас знакомят с открытием гробницы Тутанхамона, случившемся в 1925 году. Несколько насильственное включение этого сюжета в обзор событий 1926 года имело для Гумбрехта, надо думать, оправдание, выходившее за рамки хронологии. Контакт археолога с мертвым и все же осязаемым прошлым, с мумией подобен тому, к чему стремился Гумбрехт, как бы пробуя на ощупь двадцатые. Фараоны мстят тем, кто тревожит их покой, в легендах, эксплуатируемых Голливудом. История творит возмездие на деле. Она карает ученого, который лишь скользит по поверхности ее фактов, лишая его мысль внутренней стройности, называемой логикой.
Бывают ли роковые года?
Теперь мне нужно было бы забыть многое из сказанного выше, потому что я приступаю к разбору глав, в которых Гумбрехт совершает внезапный поворот, направляющий его от феноменального рассмотрения истории к ее герменевтическому прочтению. Как сочетаются оба подхода, нам не сообщается. В финальных разделах книги, следующих за герменевтическими, Гумбрехт продолжает настаивать на том, что его целеустановка заключалась по преимуществу в старании воссоздать те чувственные образы, в которых в 1926 году воспринималась действительность. Но так очерченная задача перестает волновать его, когда он берется за реконструкцию предпосылок, обусловивших эти образы. Мы имеем дело с разорванным сознанием ученого, с двумя Гумбрехтами, один из которых провозглашает, что знание истории равно видению таковой, тогда как другой углубляется в ее смысловую толщу. Гумбрехт охотно признает свою парадоксальность. Вообще говоря, парадокс убеждает в том, что противоречие истинно (что Ахиллес никогда не обгонит черепаху). Противоречия, в которые впадает Гумбрехт, напротив того, неснимаемы.
Смысловая глубина двадцатых моделируется как ряд категориальных напряжений, в которые были втянуты люди этого времени. Силовое поле, в каковом они пребывали, образовывалось, согласно Гумбрехту, между такими полюсами, как аутентичность / искусственность, прямое действие / бессилие, имманентное / трансцендентное, коллективное/индивидуальное, центр / периферия и т. д. Там, где есть оппозитивность, присутствует и возможность ее нейтрализации, выхода из зажима. Например, напряжение между прямым действием и бессилием примирялось в трагедийном взгляде на акцию, ценящим ее, даже если она «неэффективна» (с. 411). Точно так же: конфликт коллективного и индивидуального разрешала фигура вождя, столь значимая в пору, когда нарождались европейские тоталитарные режимы. Гумбрехт прослеживает и другие пути, на которых преодолевалась оппозитивность, характерная, по его мнению, для 1926 года, — и синхронизирует при этом (что бы он ни говорил о Никласе Луманне и так называемом «радикальном конструктивизме») мучительно знакомую триаду, положенную Гегелем в основание его философских представлений о диахронии, об алгоритме истории, влекомой становящимся самосознанием к синтезу противоположностей. Раз релевантно одно всегдашнее настоящее, то почему бы не впустить в 1926 год и Гегеля (от которого Гумбрехт на словах всячески открещивается)?
Сколь бы головной ни была синхронизация гегелевской схемы, некоторые из реконструкций, предпринятых Гумбрехтом, кажутся мне заслуживающими учета и сочувственного отклика. Сказанное относится в первую очередь к постановке вопроса о трансцендентном (который пунктиром был намечен уже в первой части книги). Я согласен с Гумбрехтом в том, что люди двадцатых остро ощущали утрату инобытия, будучи озабоченными тем, как ее компенсировать, что их поведение и мышление в значительной степени мотивировались неразличением имманентного и трансцендентного, что свойственная им готовность к риску и героизму, их экстатичность и экстремальность объясняются отчаянной жаждой тех, кто выпал из религии, шагнуть за смерть еще при жизни.
Мне опять приходится воздать должное интуиции Гумбрехта — несоизмеримо более адекватной, чем его рациональные построения. Несмотря на справедливость отдельных его суждений, предпринятых там, где он пытается выяснить, каковы были в 1926 году бинарные «коды» социокультуры и как происходили их «коллапсы» (перевожу буквально оригинал), в целом тот метод, посредством которого расшифровывается история, не выдерживает критики. И оппозиции, о которых ведется речь в книге, и их нейтрализации составляют архетипический фонд социокультуры, универсально распространены в ней. Действие, завершающееся поражением героя, но тем не менее имеющее высокое общественное значение, всегда входило в сюжетный запас трагедии. Столкновение коллективных чаяний и индвидуальных интересов гасилось харизматическими лидерами и до появления на исторических подмостках лиц, метивших в столпы тоталитарного порядка. В чем разница между романтическим культом Наполеона и истерией масс, боготворивших Муссолини или Сталина? История как генератор тонких различий — собственно история — остается за пределами книги. Если герменевтические поползновения Гумбрехта как-то и состыковываются с обзорно-феноменальными разделами этой работы, то за счет того, что и там и здесь ее автор упорно отказывается сравнивать между собой мир, возникший в 1926 году, как с тем, что ему предшествовало, так и с тем, что за ним последовало. Оторопь берет, когда читаешь, что контраст настоящего и будущего превозмогался в ту пору в силу того, что их поглотила современность, сделавшаяся бесконечной и бесцельной (с. 448). Неужели «Моя борьба» Гитлера, многократно цитируемая в книге, или тезисы Сталина, написанные к XV партконференции (которых Гумбрехт, вероятно, не знает), не визионерские тексты, ставившие Германии и России дальние задачи? Гумбрехту удается проникнуть в специфику двадцатых лишь тогда, когда он берет инструментально использованные им архетипы в виде уже подвергнутых историческому преобразованию, как при обсуждении оппозиции имманентное / трансцендентное, применительно к которой он постулирует опустошение ее второго элемента. Взгляд на историю как случайность может случайно наткнуться и на то, что следует признать правдоподобным.
Своеобразие социокультурной ситуации, сложившейся в 1926 году, смазывается Гумбрехтом сознательно и старательно, поскольку он решительно отрицает ее пороговость (с. 483—484), похоже, равняясь на эссе одного из фигурантов исследования, Теодора Лессинга, который в насмешливой манере приписал идею переходных времен повседневному сознанию, а эпохальное мышление — профессорам 4. Люди двадцатых могли разочаровываться в историзме, подобно Лессингу, но и могли считать его «вечным», по выражению Джентиле. С вышки же нашей современности середина этого десятилетия — развилка истории, пункт бифуркации, в котором обозначилось истощение революционного порыва, породившего ранний авангард, и наметились два способа превозмочь кризис: один, предложенный авангардом-2, другой — эстетикой и политикой тоталитарного толка. Отрыв от раннеавангардистского проекта начался не в 1926 году. Достаточно вспомнить, что выставка «Neue Sachlichkeit» была открыта в Маннхайме годом раньше, — и почти синхронно с ней в Москве стали экспонироваться работы «Общества станковистов». В обоих городах фигуративная и отчасти политизированная живопись молодежи восстала против беспредметности и аналитического кубизма предшествующего поколения (попутно замечу, что изобразительное искусство представлено в книге Гумбрехта в до чрезвычайности урезанном виде). Инновативными культурными событиями был богат и 1927 год, когда Батай написал «Историю глаза», Олеша напечатал «Зависть», а Вагинов — «Козлиную песнь». Оба последних романа, вразрез с их разительным стилистическим несходством, одинаково повествуют о конце эпох, о мучительности перехода в иное время. Исторические кризисы не разрешаются в одночасье. И все же 1926 год допустимо рассматривать как тот интервал, в котором вырождение классического авангарда и нарождение его альтернатив достигли некоего оптимума. Именно в этот момент тоталитарная, революционно-консервативная эстетика, нашедшая себе выражение в «Разгроме» Фадеева или в «Народе без пространства» Ханса Гримма (протонацистской эпопее, которой Гумбрехт заслуженно уделяет немало внимания), вызрела в спонтанном единении с политической программой, изложенной в «Моей борьбе», и с восхождением Сталина, одержавшего безоговорочную победу над романтиками Коминтерна. Одновременно русская литература повела атаку на либертинаж. Призывая к аскетизму в романе «Собачий переулок» и наказывая в финале главного героя символической кастрацией, Лев Гумилевский, конечно, не подозревал, что он странным образом перекликается с первым большим произведением Хемингуэя «И восходит солнце», где вместо омнипотентного человека авангарда-1 выведен персонаж, принужденный войной к импотенции. Как художественные ценности названные романы несопоставимы. Для меня существенно здесь лишь то, что антиавангардизм (Гумилевского) и иноавангардизм (Хемингуэя) еще не были отделены друг от друга в 1926 году непроходимой гранью, которая размежевала их в тридцатых. Авангард-2 (ограничусь русскими примерами — они вполне красноречивы) заявил о себе в 1926 году выступлениями как раз сформировавшегося в Ленинграде постфутуристического Объединения реального искусства, а в Москве поэтической активностью Литературного центра конструктивистов, боровшегося с ЛЕФом. Бахтин публикует под именем Волошинова статью «Слово в жизни и слово в поэзии», набрасывая эскиз неформальной риторики, исходящей из понятия «социального подразумеваемого» речи. Абрам Роом снимает «Третью Мещанскую» (см. статью Аркадия Блюмбаума на с. 117. — Ред .) — фильм, в котором «квартира ЛЕФа» превратилась из очага радикальных идей в место фрустрации, подлежащей критике. Я указываю на очевидности. У меня нет ни малейшей возможности всерьез проанализировать перечисленные факты и многочисленные сходные с ними, не названные здесь. Мне хочется, пусть в первом приближении, взять под защиту ценностную особость 1926 года, опустошенную Гумбрехтом.