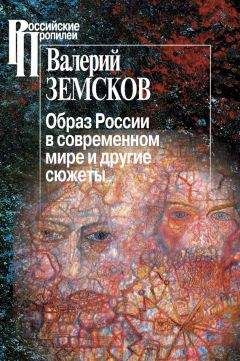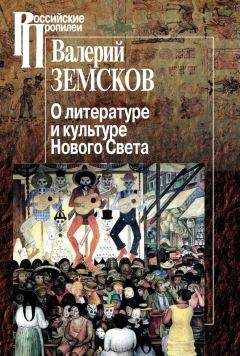Ознакомительная версия.
Обратим внимание на другую сторону той же темы, которой, как ни странно, не придается значения. Интерпретаторы «Бури» воспринимают Калибана как фантастическое существо, но почти ничего фантастического в нем нет (конечно, если «забыть» о его мамаше, ведьме Сикораксе). На самом деле в «Буре» лишь два по-настоящему фантастических персонажа: сам Просперо-чародей и Ариэль, Калибан обозначен Шекспиром в перечне действующих лиц как «раб, уродливый дикарь». Чудище, получеловек-полузверь, животное… – говорят о нем другие.
Точка зрения всех европейцев на Калибана едина: это что-то вроде человека, но скорее всего животное. Таким он предстает потому, что смотрят на него не бытовым (как на Тринкуло и Стефано), а философствующим, оценочным взглядом, как смотрели европейцы на неведомых «каннибалов» Нового Света. Философская оценка, с которой как раз и спорил Монтень в «Опытах», привела к возникновению маски животного, а человеческая природа Калибана оказалась отчужденной и скрытой под шерстью или чешуей, которые надел на него европеец. И здесь Шекспир уже не оппонент, а союзник Монтеня.
Мы не присутствуем при том, как Просперо, прежде относившийся к Калибану «как к человеку», раньше всех превратил его в животное за то, что он, посчитав Миранду общим достоянием, захотел сделать ее своей женой. Но мы присутствуем при превращении Калибана в животное, совершаемом другими европейцами.
Калибан бредет с охапкой дров; завидев Тринкуло, он принимает шута за духа, посланного Просперо, и в страхе распластывается на земле. Тот разглядывает Калибана: «Это еще что? Человек или рыба? Мертвое или живое? Рыба! – воняет рыбой… Будь я сейчас в Англии – а я там был однажды – да показывай я эту рыбу, пусть даже на картинке, любой зевака отвалил бы мне серебряную монету за посмотрение. Там бы это чудище вывело меня в люди. Там всякое странное животное выводит кого-нибудь в люди. Те, кому жалко подать грош безногому калеке, охотно выложат в десять раз больше, чтобы поглазеть на мертвого индейца (курсив мой. – В. 3.)… Да у нее человечьи ноги! А плавники точь-в-точь, как руки! Ей-богу, оно теплое! Нет, я ошибся! Отрекаюсь от своих слов. Никакая это не рыба. Это здешний островитянин, которого убило грозой»[224].
Приблизительно так же воспринимает это «чудище» и появившийся вслед за Тринкуло пьяница Стефано – он тоже «случайно» сравнил стоны Калибана с воем чертей, которые прикинулись «дикарями или индейцами»[225]. Он намеревается практически использовать Калибана, как и Тринкуло.
Вот он, человек-животное, человек-рыба, стоящий на низшей ступени Великой цепи бытия, как воспринимали индейцев европейские колонизаторы. Вот она, начальная мерка измерения величия человека, начальная ступень той лестницы, на вершине которой стоит Просперо. Но какой разительный контраст являет собой этот дикарь в сравнении с европейцами! Насколько больше в нем человеческого в сравнении с Тринкуло или со Стефано, которого он принимает за «человекобога» (какая ирония!).
Авторское чувство целиком на стороне Калибана-человека, наивного, искреннего и упорного в своей мечте о свободе. Тема свободы неожиданно обретает патетическое звучание. Для всех европейцев, с которыми борется Просперо, свобода – это ничем не скованное проявление личности, своего произвола («чихать на все!»), для Калибана это нечто иное. Ощущение Тринкуло и Стефано как низменных негодяев, как «скотов» возникает именно в результате столкновения возвышенной темы свободы с их подлым отношением к наивности Калибана. Как заметил М. Донской, Калибан почти все время говорит стихами, а его собеседники в полном смысле слова «вульгарной прозой»[226]. Тема свободы возвышает и одухотворяет Калибана, и гармония, музыка – Ариэль, покидая Просперо, уходит к нему:
Бывает, словно сотни инструментов
Звенят в моих ушах; а то бывает,
Что голоса я слышу, пробуждаясь,
И засыпаю вновь под это пенье.
И золотые облака мне снятся.
И льется дождь сокровищ на меня…
И плачу я о том, что я проснулся[227].
Такова человеческая ипостась Калибана. Сочетание обоих смысловых пластов образа создает неуловимую двойственность мысли, наполняет богатейшими оттенками основную тему произведения – тему сущности человека и человеческого, которая исследуется в противостоянии Калибана и Просперо.
В скрещении двух смысловых линий Просперо предстает во всей своей противоречивости, в борении разрывающих его стихий, которыми он – маг, овладевший природой! – управлять не в силах. Он, «богоподобный» носитель идеала, «венец Вселенной», мерило красоты, знания, справедливости, доброты, оказывается… узурпатором, носителем произвола, с которым борется в других.
Что-то неладное в отношениях Просперо с Калибаном чувствуется уже в начальных сценах, когда он отказывает странному существу в его законном праве на землю. Затем выясняется, что гений воздуха Ариэль также раб Просперо, «слуга», которому господин отказывает в свободе и угрожает наказаниями похуже того, что в свое время придумала для него ведьма Сикоракса. Тема двойственности, внутреннего разлада в душе Просперо дает себя знать и в его произволе и насилии по отношению к другим персонажам, в частности к Миранде и Фердинанду, в его не терпящем возражений тоне. К чему стремится Просперо? К тому, чтобы восстановить нарушенный порядок, воздать каждому по заслугам.
Уже отмечалось, что трагические коллизии возникают как раз тогда, когда нарушаются какие-то звенья в Цепи бытия. У Шекспира стремление к восстановлению изначального порядка всегда морально оправдывало трагического героя. Оправдывает ли оно Просперо? «Счастливо» закругленный финал пьесы вроде бы должен говорить именно об этом: Просперо восстановил порядок, но на деле, и все это отмечают – финал компромиссен. Злодеи не исправились. Калибан остался Калибаном. И дело не только в том, что Просперо оказался бессильным переделать людей, а в том, что его моральная правота поставлена под сомнение, – он, владетель гармонического начала, оказывается с ним в непримиримом конфликте. И Калибан знает об этом тайном недуге Просперо. Как иначе можно понять его слова, которые он произносит, сговариваясь со Стефано и наставляя его прежде всего уничтожить книги чародея:
…Но помни – книги!
Их захвати! Без книг он глуп, как я,
И духи слушаться его не будут:
Ведь им он ненавистен, как и мне.[228]
Образ Просперо так же, как и Калибана, таит в себе огромное философско-поэтическое обобщение, символизирует высшую ступень человеческой лестницы. Образ гигантский, вобравший всю сумму размышлений о гуманизме, сконцентрировавший целую философскую систему. То, что духовность покидает Просперо, – знак крушения его представлений о человеке и человечности. Рушится же вся лестница потому, что оказалась выбитой начальная ее ступень – человек-животное Калибан. То, что казалось «рыбой», явилось человеком, на стороне которого дух, гармония; а тот, что был человеком, достигшим небесных сфер, обнаружил звериную природу. Не чародей потерпел поражение от фантастического зверя, а человек не победил человека. Из всех героев «Бури» только два претерпевают изменения – Просперо и Калибан. Причем изменения в этих трагически окрашенных героях произошли по закону «сообщающихся сосудов»: человечность Просперо оказалась поставленной под сомнение, человечность Калибана стала явью. Потому, думается, и назвал Шекспир свое последнее из гениальных произведений – «Буря» (ключевой образ всего его творчества), что «буря» жизни здесь потрясла не те или иные части мироздания, а самые его основы.
Безусловно, драма свидетельствует об острейшем кризисе. Мы были бы глухи, если бы не расслышали в словах Просперо: «Мой удел – отчаянье» – голоса Шекспира, но мы были бы глухи, если бы не расслышали в ревущей буре и иного. Гармония словно обещает свое рождение на вершине кризиса, где, как временами у Шостаковича, борение противоположных сил достигает таких высот, когда, кажется, вот-вот начнется распад самой музыки. Конечно, гармоническое начало воплощено в любви Миранды и Фердинанда. Музыкально-поэтическая устремленность в будущее, к гармонии в «Буре» ощущается и в мысли поэта, который показывает нам, что человечность, гармония несовместимы с произволом, что отдельная личность вообще не может быть «нормой» человеческого, что должна быть какая-то иная, кроме «природной», мера человека, нравственности. В «Буре» потерпели поражение не только раннебуржуазные гуманистические утопии и мировоззренческие стереотипы того времени, но произошел глубинный надлом всей антропоцентристской системы философского мышления вообще, Шекспир подошел к невероятному для того времени рубежу. Еще предстояли времена Руссо и Вольтера, краха иллюзий Великой французской революции, а интуиция художника уже отвергла все утопические представления о человеке. Диалектикой развития образов, нравственным чувством драматург подвел к пониманию человека как существа общественного и исторического.
Ознакомительная версия.