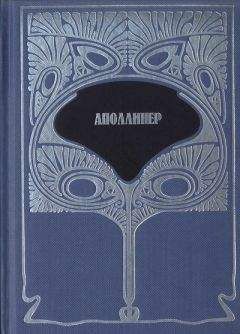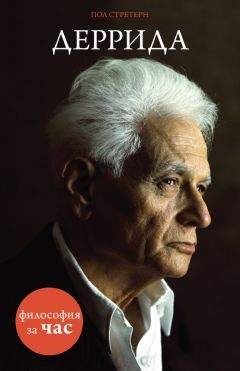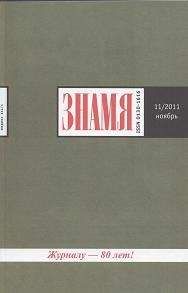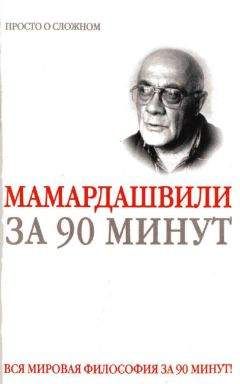270
ко, перерезающее луну, и лезвие бритвы, вскрывающее глаз» (Бунюэль, 1986:125). Жорж Батай, однако, приводит иную версию: «Бунюэль сам рассказывал мне, что этот эпизод придумал Дали, которому он был непосредственно подсказан подлинным видением узкого и длинного облака, перерезающего лунный диск» (Батай, 1970:211).
Отсылки к сновидениям, чрезвычайно характерные для сюрреалистов, часто служат вытеснению источника, камуфляжем тех реальных интертекстуальных связей, которые скрываются за тропами. Сон замещает источник цитирования, выводя его из сферы культуры в сферу физиологии, эротики, подсознания. Есть, однако, все основания утверждать, что мотив разрезаемого глаза является контаминацией нескольких источников. Дали использует его уже в 1927 году в тексте «Моя подруга и пляж»: «Моя подруга любит <...> нежность легких разрезов скальпеля на выпуклости зрачка...» (Дали, 1979:48). Ф. Аранда возводит этот мотив к стихотворению Э. Ларреа 1919 года (Аранда, 1975:67). Он также может интерпретироваться в общем контексте темы слепоты, характерной для фильма — выколотые глаза ослов, слепые, закопанные в песок в финале и т. д. Остановимся еще на одном возможном источнике этого мотива — романе Рамона Гомеса де ла Серны «Киноландия».
Бунюэль восхищался Гомесом де ла Серной, явно переоценивал его роль в развитии кино2 и даже собирался привлечь в качестве сценариста для работы над «Андалузским псом» (Аранда, 1975:59), а еще до возникновения этого замысла хотел поставить сценарий писателя «Капричос», состоявший из шести новелл (Драммонд, 1977:60).
Знакомство Бунюэля с литературной киноутопией Рамона Гомеса де ла Серны не вызывает сомнений. «Киноландия» близка сюрреалистам своим взглядом на мир сквозь призму кинематографа. Параллели к
271
прологу бунюэлевского фильма имеются в главе «Похищенная родинка», где речь идет о «трагическом происшествии»: муж кинозвезды Эдмы Блэк «связал свою жену и с помощью скальпеля вырезал родимое пятно, находившееся у нее на спине. Чтобы вырезать родинку, Эрнесто Уорд так глубоко погрузил скальпель, что кровь хлынула целым фонтаном: Эдма была обескровлена, словно родинка была тампоном, сдерживающим всю ее кровь» (Гомес де ла Серна, 1927:48). Но писатель усиленно подчеркивает травестийную обратимость родинки Эдмы Блэк, которая может легко замещаться. Родинка кинозвезды может быть глазом: «Вырвать трепещущую родинку почти то же самое, что вырвать из тела живой глаз» (Гомес де ла Серна, 1927:48); она может быть бриллиантом: «Крупнейший бриллиант, оправленный в платину, не мог сравняться в цене с этой родинкой» (Гомес де ла Серна, 1927:48); она может быть маяком: «Вся она обратилась спиной к самой себе и вечно воображает, что ее родинка светит сильнее, чем самый большой на свете маяк» (Гомес де ла Серна, 1927:49). Родинка Эдмы Блэк вдруг оказывается на луне: «На миловидном лике луны этого дивного вечера, возле уголка ее губ, расплывшихся в широкой улыбке, виднелась настоящая человеческая родинка» (Гомес де ла Серна, 1927:50). Она приобретает свойства эротического символа: «Эльза сказала: «Если бы какой-либо мужчина сделал то же со мной, я откусила бы ему нос» (Гомес де ла Серна, 1927:49). Нос здесь — явный эвфемизм, выдержанный в традициях эротической травестийности. Таким образом, подчеркивая версатильность родинки, писатель строит длинную цепочку взаимозаменяемых мотивов, многоступенчатую развернутую метафору: родинка — глаз — маяк — луна, далее — юпитеры и рефлекторы киностудии. Слепящий свет маяка-луны-юпитеров связывается писателем с мотивом слепоты (одним из важнейших в «Киноландии»):
272
«...одно из величайших наслаждений киноартистки, приносящей себя в жертву толпе, сжечь свои глаза в ярком пламени света. <...>. Для кинематографа голос, слово, тонкие изящные оттенки речи заключены в глазах. Поэтому о потерявших зрение можно сказать, что они немы для кинематографа» (Гомес де ла Серна, 1927:73). Подобные метаописательные развернутые метафоры характерны и для сюрреалистской поэтики, однако взаимозаменяемость мотивов в «Киноландии» носит еще половинчатый характер: «вырвать родинку почти то же самое, что вырвать глаз». Субституция глаза и родинки здесь осуществляется в фигуративном, дискурсивном плане, лишь опосредованно воздействующем на референтный, диегетический план повествования. .
Диегетическое совмещение луны и глаза в «Андалузском псе» ведет к более радикальному смещению дискурсивного и референтного планов, которое в полной мере обнаруживается в основной части фильма.
Метафора пролога обладает еще одним важным свойством. Сближаемые образы здесь объединяются, по преимуществу, на основе чисто внешнего, формального сходства. Круг луны и шар глаза могут поэтому легко взаимозаменяться. Такая акцентировка внешней формы призвана разрушить устоявшиеся семантические связи и подменить их иным способом взаимодействия означающих. Перенос акцента с семантики на внешне-формальную сторону сближаемых образов лежит в основе сюрреалистской стратегии обновления языка. Майкл Риффатерр так определяет свойство союза в сюрреалистских текстах: «Соединительный союз, став формальным субститутом синонимии, метафорически сближает слова, не имеющие никакой семантической связи» (Риффатерр, 1979:223). В «Андалузском псе» функцию соединительного союза выполняют монтажные иллюзии пространственной объединенности двух сближаемых эле-
273
ментов, наплыв, «странное» соединение двух и более предметов в одном абсурдном образе и т. д. Таким образом, кино в силу своей «аграмматичности» может обходиться для аналогичных построений без грамматической симуляции синонимии на основе соединительных союзов.
Сцепление логически несоединимых элементов, будь то через соединительные союзы в словесном тексте, или через монтаж в кинематографическом, приводит к парадоксу. С одной стороны, мы имеем целые «скопища» анаграмматизмов, аномалий, которые неизбежно толкают к интертекстуальному прочтению. Эти странные, ненормализуемые цепочки буквально вопиют о своей цитатности. С другой стороны, снятие семантических связей переносит акцент на чистую синтагматику. Нам как будто предлагают читать текст, обладающий значением только в непосредственности своего развертывания, текст, который весь сосредоточен в синтагме и отрицает все парадигматические связи. В этом отношении сюрреалистский текст (и нам предстоит в этом убедиться) является прямой противоположностью «Механическому балету» с его повторами и маниакальным изложением парадигмы, по существу, отрицающими синтагматическое измерение.
Сами сюрреалисты с их постоянными ссылками на сновидения, медиумичность автоматического письма и т. п. как будто побуждали к психологизирующему чтению, например, сквозь призму фрейдизма. Неясный код текста тем самым прятался в темноте подсознания. Риффатерр указывает, что элементы сюрреалистических текстов читаются как иероглифы: «Мы понимаем их не как речь и даже не как изолированные символы, они скорее представляют речь, ключ от которой где-то упрятан» (Риффатерр, 1979:249). Мы уже писали об «иероглифичности» цитаты. Но в данном случае это иероглиф, отсылающий не к интертек-
274
сту, а к тексту подсознания. Такой, во всяком случае, была сознательная стратегия сюрреалистов, постоянно упоминавших об автоматизме письма и сновидений. Эта стратегия себя, оправдала, ибо именно через посредство психоанализа удалось достаточно эффективно проинтерпретировать многие сюрреалистические тексты.
И все же отсылка к бессознательному была лишь паллиативом. Основное в сюрреалистической стратегии сводилось к иному. Риффатерр совершенно точно заметил, что семантические аграмматизмы у сюрреалистов постоянно компенсируются «грамматичностъю» на уровне структуры. «Абсурд, нонсенс, в силу одного того, что они блокируют декодирование, заставляют читателя непосредственно читать структуры» (Риффатерр, 1979:249), — замечает исследователь.
В дальнейшем нам и предстоит понять, до какой степени структура, синтагма в состоянии нормализовать текст, не получающий нормализации на уровне «обычной» работы интертекста, традиционной дешифровки цитат. Кино в этом смысле, конечно, является особенно удачной моделью. Именно оно как бы позволяет разгрузить семантику, уйти от того поля ассоциаций, которое тяготеет над вербальными элементами. Кино гораздо легче, чем литература, способно акцентировать внешнюю, зримую сторону предмета, как бы оторвав ее от семантического наполнения последнего. Отсюда и мимикрия ряда сюрреалистских текстов под
кинематограф.
Самый простой способ такого синтагматического сближения предметов без учета их символизма и значения — это, конечно, сближение на основе внешне-формального сходства. Проще всего такое сходство улавливается при наличии некой общей геометрической формы, через которую возможны переходы-взаимосближения предметов. Наиболее элементарной