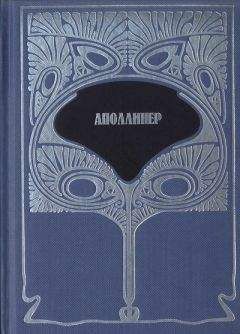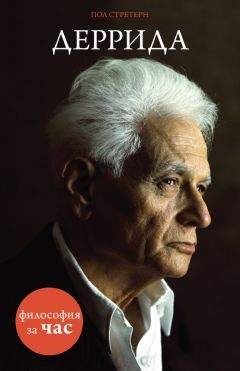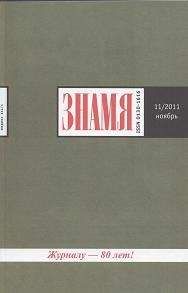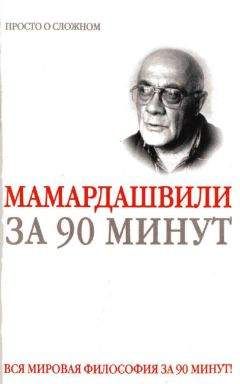287
«Андалузский пес». Мигрирующие волосы
288
леона. Мы их видели в крупном плане поцелуя горящими, подобно редкому летнему насекомому, на губах, чувствительных, как мимоза, и совершенно пожирающими их колеоптерусом любви. Мы видели, как его улыбка, подобно тигру, выпрыгивает из засады его усов» (Аранда, 1975:270). Волосы-насекомые на лице Пьера Бачева в фильме пародийно вводят тему донжуанства, кровожадной неотразимости, а также связаны и с важной для фильма прустовской темой.
Известно, что образ муравьев был предложен Сальвадором Дали (Бунюэль, 1986:125). Он усиленно мифологизировал его и широко использовал в своей живописи. Муравьи первоначально появляются в «Большом муравьеде», а затем в «Великом мастурбаторе», где занимают место отсутствующего рта. Мифология муравьев очень скоро становится весьма отчетливой. С одной стороны, они связаны с темой гниения. В «Великом мастурбаторе» Дали заменяет рот кузнечиком, чей разлагающийся живот кишит муравьями. Муравьи символизируют гниение на туше осла в «Вильгельме Телле» (1930) того же Дали. С другой стороны, эти насекомые увязываются с эротической тематикой, так как стойко ассоциируются с лобковыми волосами, например в «Мрачной игре» (1929), в акварельном этюде к «Великому мастурбатору» (1929), в «Комбинациях» (1931), где муравьи на лобке объединены с таким расхожим фрейдистским символом, как ключ. Муравьи, занимающие место рта в «Сне» (1931), метафорически обозначают эротические фантазмы. Их двойственность обеспечивает весьма важное для Дали объединение темы смерти и эротики.
Это объединение подтверждается и сюрреалистским литературным интертекстом, где муравьи связаны с кровью. У Бретона: «Этот исследователь борется с красными муравьями своей собственной крови» (Бре-
289
С. Дали. «Великий маcтурбатор», 1928
290
тон, 1932:57) или у Пере: «Есть два способа укоротить нос. Самый простой способ заключается в том, чтобы тереть его теркой для сыра, пока из него не выползет несколько десятков муравьев» (Пере, 1967:47—48). Последний образ имеет явную эротическую подоплеку. Связь муравьев с кровью, раной может иногда принять и неожиданный характер, как, например, у Бретона в «Растворимой рыбе» (1924): «В витрине — корпус превосходного белого корабля, чей нос сильно поврежден и терзаем муравьями неизвестного вида» (Бретон, 1948:50—51). Незадолго до создания «Андалузского пса» ассоциация руки с муравьями и смертью возникает у Арто: «Подобие ночи заполняет ее зубы. С рычанием проникает в пещеры ее черепа. Она приподымает крышку ее могилы рукой с муравьиными костяшками» (Арто, 1976:139). Цепочка череп-смерть-муравьи в усеченном виде возникает и у Бретона—Супо: «Открываешь мозг, там красные муравьи» (Бретон—Супо, 1968:106).
Внешнее сходство (красные муравьи — кровь, черные муравьи — вьющиеся волосы) или их свойство поедать падаль превращают муравьев в обратимые означающие, способные отсылать к различным означаемым и тем самым связывать между собой по видимости совершенно разнородный материал. У Бунюэля, так же, как у Пере и Бретона, разрушается традиционная семантика этого насекомого, оно лишается привычного смыслового наполнения и становится как бы «пустым» означающим, способным приобретать различные метафорические смыслы и вступать в отношения многообразных субституций. Перед нами само становление тропа, а не его устоявшаяся кристаллизованная форма.
Устойчивый смысл на протяжении всего фильма подменяется Бунюэлем—Дали окказиональными смыслами. Особенно очевидна такая процедура на примере нескольких предметов, обладающих развитым
291
С. Дали. «Вильгельм Тель», 1930. Муравьи на туше осла
292
культурным символизмом. Прежде всего, это «Кружевница» Вермеера Дельфтского и рояли, на которых ввозят в комнату мертвых ослов. И «Кружевница», и рояли — принадлежности рафинированной европейской культуры. Естественно, именно в таком направлении зритель и стремится интерпретировать их смысл в фильме. Однако в действительности, чем очевидней культурный символизм предмета, тем вероятнее, что Бунюэль-Дали станут трактовать его в полном разрыве с тем устойчивым интертекстом, в который он вписан.
«Кружевница» появляется в фильме в следующем контексте: по улице едет травестированный велосипедист. Затем мы видим, как девушка (цитирую по сценарию) «внимательно читает книгу. Вдруг она вздрагивает, с любопытством прислушивается и избавляется от книги, бросая ее рядом на диван. Книга остается открытой. На одной из ее страниц видна гравюра «Кружевницы» Вермеера. Теперь девушка убеждена, что что-то происходит: она встает, поворачивается и быстрым шагом идет к окну» (Киру, 1962:133—134). Далее нам показывают, как велосипедист падает у дома и разбивается насмерть.
В этой сцене — типичной монтажной аномалии — как будто перевернута причинно-следственная связь. Девушка сначала вздрагивает и бежит к окну, и лишь потом к дому подъезжает велосипедист и падает, разбиваясь о кромку тротуара. Но такого рода нарушения причинности вообще-то не типичны для бунюэлевского творчества. Какую же роль выполняет в этом эпизоде «Кружевница», предусмотренная еще в сценарии?
Интерес к Вермееру во Франции был разбужен выставкой голландского искусства, состоявшейся в Зале для игры в мяч в мае 1921 года. Эта выставка была подлинной сенсацией. По свидетельству Пьера Декарга, «журналы переполнены статьями о Верме-
293
С. Дали. «Мрачная игра», 1929
294
ере, публикуются схематизированные кальки с его произведений, блестящий кафель голландских интерьеров сравнивают с Мондрианами» (Декарг, 1955:64). Влияние Вермеера велико и порой неожиданно. Так, под воздействием Вермеера в живопись Леже входят бытовые мотивы. Творчество Вермеера быстро мифологизируется. Особое символическое значение его живопись приобретает для Пруста, посвятившего голландскому художнику немало страниц в «Поисках утраченного времени». Пруст пошел на выставку Вермеера, но по дороге почувствовал острое недомогание, которое воспринял как сигнал приближающейся смерти: «На лестнице у него случилось ужаснейшее головокружение, он закачался и остановился, но смог продолжить свой путь. В Зале для игры в мяч Водуайе вынужден был взять его за руку и направить его, едва стоящего на ногах, к «Виду Дельфта»» (Пейнтер, 1966а:398). Вернувшись домой, Пруст описал свидание с Вермеером как пророчество конца в эпизоде смерти Бергота. Бергот непосредственно перед смертью созерцает «Вид Дельфта», концентрируя свое внимание на желтом кусочке стены, освещенной солнцем: «он привязал свой взгляд, как ребенок к желтой бабочке, которую он хочет поймать, к драгоценному куску стены» (Пруст, 1977:222). Это последнее видение Бергота: «Он упал на полукруглый диван <...>. Его настиг еще один удар. Он скатился с дивана на пол, сбежались все посетители и служители. Он был мертв» (Пруст, 1977:223).
Однако прустовский интертекст оказывается еще более прихотливым и богатым. Он включает в себя иного полузабытого автора — Робера де Монтескью, знаменитого парижского денди, которым восхищался Пруст, кому он отчасти подражал и кого вывел в своем романном цикле под именем Шарлю. Монтескью был не слишком удачливым писателем. В своем «Фламандском диптихе» он также пишет о «Виде
295
«Андалузский пес» ,. Явление .Кружевницы» Вермеера.
296
Дельфта», особо отмечая его желто-розовый цвет (Монтескью, 1986:13), и тут же неожиданно посвящает целый фрагмент Вермееру как живописцу смерти и жемчуга: «Воды, извечно катящие перлы. Лишь четыре из них распускаются радугой в Вермеере Риксмузеума; их рыдания протяжней на шеях героинь живого Вермеера, они плачут вместе с этими молодыми женщинами, поскольку они печальны, эти Офелии. <...>. Да, Офелии, познавшие, испытавшие любовь и оплакивающие ее своими слезами и жемчужинами» (Монтескью, 1986:19). Этот мотив, как мы увидим ниже, был подхвачем сюрреалистами, особенно Дали, и развит в деталях.
Монтескью как пародийный и почти сюрреалистский по духу двойник Пруста мог оказаться в подтексте «Андалузского пса» и быть гротескным прототипом персонажа, сыгранного Пьером Бачевым. В поведении этого декадентствующего эксцентрика конца века было много черт, как бы предвосхищавших сюрреалистскую этику. Он, например, гордился своей жестокостью. Ему принадлежит следующий афоризм: «Самое большое, самое тяжелое из всех преступлений — это причинять лишь легкие страдания тем, кто вас любит» (Кастельно, 1962:232). Монтескью «прославился» тем, что тростью избивал женщин во время знаменитого пожара на Благотворительном Базаре, откуда он пытался спастись. Вполне в духе сюрреалистов он коллекционировал странную живопись «кусков тела». В его коллекции был рисунок подбородка графини Грефюль, выполненный Гандарой, рисунок ног его секретаря Итюри, сделанный Болдини, или гипсовый муляж колена графини де Кастильоне (Пейнтер, 1966:179). Вокруг этой женщины Монтескью создал настоящий культ, разделяя с ней странную страсть к фотографированию: известно, что графиня де Кастильоне, например, любила фотографировать свои ноги (Соломон-Годо, 1986). Эта страсть к