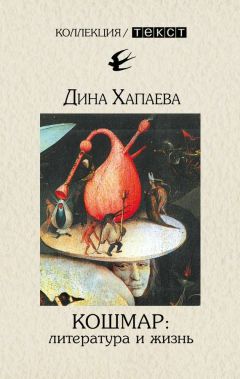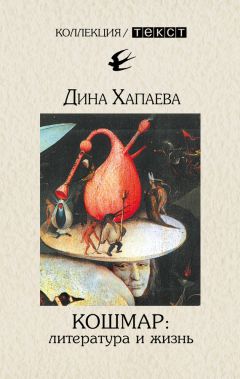Кошмар — это сложное ментальное состояние, имеющее несколько уровней. Это — субъективное переживание изменения восприятия времени, катастрофа спящего сознания. Она начинается в тот момент, когда внимание сновидца сосредотачивается на пустоте, которая может свернуться в точку в пространстве, материализоваться в предмет и снова обернуться зияющей пропастью. Завороженный созерцанием пустоты, сновидец не в силах оторвать от нее взор. Паралич чувств и воли, скованность взгляда и мысли вызывают ощущение усиливающегося головокружения, падения в стремительно вращающуюся воронку. Все ускоряющееся кружение воронки искривляет нормальное течение событий сна, подхватывает сновидца и выбрасывает его из привычного времени. Так в момент слома линейного восприятия времени возникает темпоральность кошмара, важнейшей особенностью которой является разрыв. Привычная последовательность событий драматически ломается, разрушается необратимость прошлого, настоящего и будущего, а сновидец одновременно присутствует в разных моментах собственной жизни.
Это объясняет важное свойство кошмара — способность перемешать события не в свое время, путать порядок причин и следствий, прихотливо искажать предметы и коверкать пространство. Преследование, погоня и бегство — наиболее частый сюжет кошмара — являет простейший способ представить в виде внятного образа то, что происходит в кошмаре со временем.
Кошмар — неуправляемая машина времени, которую непроизвольно запускает наше спящее сознание, способная перенести нас в одно из возможных будущих и возвратить прошлое, а главное — мучительно перемешать порядок времен. Он лишает нас не просто способности ориентироваться, но и осознавать себя, вызывая панику и чувство неизъяснимого ужаса.
Другое измерение кошмара, его иное обличье — это исчезновение смысла. Неспособность выразить словами то, что стесняет и давит душу, изводит и терзает, заставляет повторять слова, чтобы заговорить тягостные чувства. Навязчивый повтор слова помогает звуку похитить смысл, отделить смысл от звука, разрушить рациональную природу слова. Но парализованное кружением назойливого звука сознание сновидца не в силах ни вернуть ему значение, ни отвлечься. Все ускоряясь, зудящие звуки увлекают в водоворот кошмара, где, утратив остатки смысла, слово оборачивается мучительным стоном. Так эмоция кошмара похищает смысл слова, низводя его до навязчивого «бобка», до кошмарного звуко-слова авласавлалакавла, до животного крика. Так происходит деградация речи в невыразимую эмоцию, уводящую за пределы языка и отображаемого ужаса.
И тогда кошмар торжествует над языком, не справившимся с задачей выразить и рационализовать эмоцию. Подавляя язык, кошмар угнетает способность к самовыражению.
Принципиальная невыразимость кошмара способна создать ситуацию, когда любое слово лишается смысла и безвозвратно превращается в звук, утративший значение, в звукослово, в кошмар словесной бессмыслицы. Неспособность справиться с бессмысленным словом кошмара может ввергнуть в речевое расстройство. Опасность этого состояния, которое так хорошо знакомо каждому, кто пытался пересказать свой кошмар, состоит в его пограничности, в его балансировании над пропастью безумия. Заговор и бормотанье кошмара могут стать входом в кошмар наяву. В этом заключается связь кошмара и сумасшествия.
Кошмар — терминатор языка, разрушитель смыслов, пожиратель слов. Убийца времени и индивидуальности, творчества и самосознания, мысли и идей.
Читатель может возразить: а как же образы, те незабываемо жуткие и яркие картины, которые мы видим в кошмаре? То, что мы «видим» в кошмаре, его всевозможные образы есть способ сознания объяснить себе свое состояние, когда сознание утрачивает свое время, а язык — смысл. В этот момент паники и хаоса, чувства потерянности и катастрофы кошмар воплощается в эстетическую реакцию, в непередаваемое соединение несоединимого и немыслимого. Соединение несоединимого — в образах или действиях чудищ, в нагромождении немыслимых событий и невероятных поступков — есть способ, каким наш разум задним числом рационализирует кошмар, внушая нам странную смесь восторга и ужаса, притягательности и отвращения. Образы кошмара чрезвычайно разнообразны по форме, но однообразны по сути, красочны, но невыразимы. Не потому ли в живописи, за исключением офортов Гойи, практически нет портретов кошмаров, а есть только многочисленные изображения ада?
Властные эмоции, ступор и головокружение, ужас и непередаваемая эстетика кошмара, безусловно, обладают огромной притягательностью. Эти гедонистические эмоции сновидец — носитель современной культуры — с удовольствием переживает под видом фильма, романа, компьютерной игры.
Вживленный в культуру, кошмар направлен не на поиск коммуникативных ресурсов, не на самовыражение, а на гедонистическое пассивное самоудовлетворение. Глубоко нетворческое состояние, кошмар сосредоточен на подражании, настроен на имитацию.
Опасность вампирической саги состоит не только в том, что «человеческие детеныши» учатся отождествлять себя не с людьми, а с нелюдями, превращая в свой идеал отрицание человека и человеческого. Имитация кошмара под видом культурного продукта в сомнамбулическую эпоху запускает сложные механизмы сознания, природа которых далеко не ясна и совершенно неуправляема.
Последствия массового потребления кошмара в современной культуре особенно непредсказуемы потому, что материализация кошмара совпала с ощущением утраты смысла культуры, кризисом научной рациональности и с радикальными изменениями восприятия времени.
Культура, захваченная нелюдьми,
как корабль пиратами,
сживается с новым чувством реальности.
На горизонте встает кошмар — материализация
готических перспектив.
Хельсинки, 10 января 2010 г.
«Невский проспект» (далее — НП). Здесь и далее цитирую по изданию: Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Под ред. Н.Ф. Бельчикова, Б.В. Томашевского. Ленинград, изд-во АН СССР, 1938, т. 3 с.18.
Там же, с. 15.
Там же, с. 16.
Там же, с. 76.
Из письма М.П. Балавиной, Гоголь, ПСС, т.11., с. 229.
Из письма М.А. Максимовичу, Гоголь, ПСС, т. 10, с. 46.
О «высоком и низком» у Гоголя см.: R. L. Jackson «Gogol’s „The Portrait“: The Simultaneity of Madness, Naturalism, and the Supernatural». Essays on Gogol: Logos and the Russian Word. Ed. by S. Fusso, P. Meyer. Evantson, 1992.
«(…) но красота, красота нежная… она с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях». НП, с. 22.
«Таким образом, все петербургские повести в той или иной степени проникнуты фантастическими или гротескно-бредовыми мотивами, и это — существеннейшая черта, объединяющая не только пять повестей в цикл, но и способствующая единству самого образа Петербурга во всех пяти повестях. (…) Это город ненормальный, невероятный». Г.А. Гуковский. Реализм Гоголя. Д., 1959, с. 270. О принадлежности Гоголя к натуральной школе и о ее не полной нетождествености реализму см.: В.В. Виноградов. Гоголь и натуральная школа. Д., 1925.
Дальше всех пошел Набоков: «„Шинель“ Гоголя — гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной картине жизни». Vladimir Nabokov. Nikolai Gogol. New York: New Directions, 1944. Цит. по пер. E. Голышевой. «Новый мир», 1987, № 4, с. 191; «Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинной царство Гоголя…», с. 52; «Забавно, что эта сновидческая пьеса, этот „государственный призрак“ был воспринят как сатира на подлинную жизнь России» (Там же, с. 193). Читать литературу сквозь призму кошмаров предлагал, в частности, в связи с Кафкой, Борхес: Х.Л. Борхес. Кошмар. Сочинения. Пер. Б. Дубина. Рига, 1994.
НП, с. 16 «Действующие лица — люди из кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную (из-за своей мнимой реальности) пучину сна», — писал о гоголевской прозе Набоков (Набоков, ук. соч., с. 42). Мысль о том, что «Коляска» Гоголя — отображение кошмара, высказывал В. Кругликов (Незаметные очевидности: зарисовки к онтологии слова. М., 2000).
НП, с. 19.