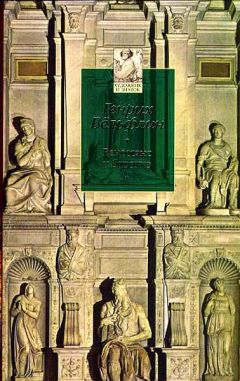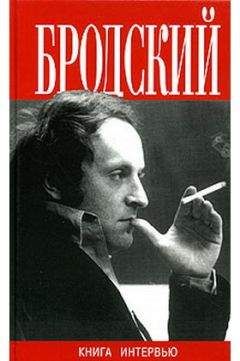Теперь, когда старинная музыка стала актуальной (хотим того или нет), музыкальное образование должно быть абсолютно другим, опираться на другие принципы. Нельзя ограничивать обучение лишь тем, в каком месте положить палец, чтобы получить определенный звук, или как достичь сноровки пальцев. Образование, направленное лишь на усовершенствование техники, готовит не музыкантов, а обычных акробатов. Брамс как-то сказал: чтобы стать хорошим музыкантом, надо чтению посвятить столько же времени, как и упражнениям за инструментом. Собственно, в этом суть дела и сегодня. Ныне мы исполняем музыку почти четырех столетий, следовательно, должны — в отличие от музыкантов прошлых эпох — учиться наиболее соответствующим способам исполнения для каждого типа музыки. Скрипач, владеющий совершенной техникой, обученный на образцах Паганини и Крейцера, не может ощущать себя готовым к игре Баха или Моцарта. Для этого он должен совершить определенные усилия — сызнова осмыслить и усвоить технические основы и содержание “повествующей” музыки XVIII века.
Это только одна сторона проблемы. Необходимо также склонить к значительно более широкому пониманию музыки и слушателя, который все еще, не осознавая того, остается жертвой инфантилизации, доставшейся в наследство от Французской революции. Красота и чувство являются для него, как и для большинства музыкантов, едиными составляющими, к которым сводится восприятие и понимание музыки. На чем основывается подготовка слушателя? На музыкальном образовании, полученном в школе и той концертной жизни, в которой он принимает участие. Но даже тот, кто не получил никакого музыкального образования и никогда не ходил на концерты, в какой-то мере просвещен музыкально, ибо в западном мире нет людей, которые бы не слушали радио. Звуки, ежедневно “заливающие” слушателя, просвещают его музыкально, подсознательно прививая понятия о ценности и значении музыки — положительные или отрицательные.
Еще один аспект, касающийся публики: на какие концерты мы ходим? Только на такие, где исполняется уже известная нам музыка. Это может подтвердить любой организатор концертов. Из различных предложенных программ слушатель выберет знакомую, что объясняется нашими слушательскими привычками. Тем не менее, если произведение и его развитие задумано так, что может ввести слушателя в состояние восторга и подъема, а иногда даже потрясения, то предпосылка здесь в том, что публика этого произведения не знает и будет слушать его впервые. Тогда композитор вместо того, чтобы оправдать наши ожидания, может внезапно шокировать нас, например, заменяя нормальную каденцию прерванной; тем временем прерванная каденция, о которой мы уже знаем, не будет именно таковой. Существует бесконечное множество таких средств, музыка их использует, чтобы через неожиданности и удивление вести слушателя к пониманию и переживанию, которые соответствуют идее произведения. Но сегодня неожиданность и шок почти исключены: слушатель классической симфонии, в которую композитором помещены сотни таких неожиданностей, уже за два такта перед соответствующим местом готовится услышать “как это сейчас будет исполнено”. Проще говоря, эту музыку уже нельзя исполнять, ибо она уже настолько известна, что не может нас ни захватить неожиданно, ни шокировать, ни очаровать - разве что лишь качеством исполнения. Тем не менее для нас ее привлекательность не стареет, поскольку и не ждем уже, что она будет пленять и удивлять; мы только хотим еще и еще черпать из нее наслаждение и сравнивать, кто и как ее исполняет. Какое-то “замечательное место” может показаться нам еще более прекрасным, а какое-то замедление — еще более или же, однажды, менее медленным. Такими сравнениями мелких исполнительских отличий и исчерпывается наше слушание музыки, в котором достигаем до примитивности смешного уровня восприятия. Наше стремление к частому прослушиванию любимого произведения — в прошлом абсолютно чуждое тогдашним слушателям — достаточно выразительно показывает основное различие между слушательскими привычками вчера и сегодня. Убежден — сейчас нет почти никого, кто захотел бы слушать новые произведения вместо хорошо знакомых. Мы — будто дети, которые хотят, чтобы им рассказывали одну и ту же сказочку, поскольку храним в памяти приятные впечатления первого прослушивания.
Если нам не удастся заново пробудить интерес к тому, чего еще не знаем (хоть давнему, хоть новому), если не удастся заново открыть значение влияния музыки на наш дух и тело, то любое музицирование потеряет свой смысл. Это бы означало бесполезность работы великих композиторов, наполняющих свои произведения музыкальным содержанием, которое сейчас нам ни к чему и которого не понимаем. Если бы они вкладывали в произведение только единственно для нас что-то значащую красоту — это стоило бы им значительно меньших усилий, времени и работы.
Техническое совершенство не является самодовлеющим. Кажется, следует снова начать учить музыкантов языку или, собственно, многим языкам, присущим разнообразным музыкальным стилям, и одновременно воспитывать слушателей так, чтобы они тоже понимали эти языки, и тогда наконец уйдут в прошлое и бессмысленно-эстетское музицирование, и монотонность концертных программ. (Или эти несколько произведений, которые играются от Токио до Москвы и Парижа, составляют квинтэссенцию западной музыки?) В результате исчезнет разделение музыки на развлекательную и “серьезную”, а также ее несоответствие собственной эпохе. Культурная жизнь снова обретет свое единство. Такой должна быть цель музыкального образования в наше время. Тем более, что существует уже много соответствующих учреждений, которые несложно переформировать, изменить их задачи, наполнить новым содержанием. То, чего удалось достичь Французской революции через программу Консерватории (радикальной перестройки музыкальной жизни), станет возможным и в наше время при условии, что мы будем убеждены в необходимости такой перестройки.
Каким образом композитор увековечивает свои замыслы и желания? Как старается передать их своим современникам и потомкам? Вот вопросы, с которыми постоянно сталкивается каждый музыкант. Мы постоянно замечаем, что композиторы — имея ограниченные возможности, давая более или менее точные указания — стараются избегать чреватой многозначности. Каждый композитор начинает со временем пользоваться индивидуальной нотной записью, которую нельзя расшифровать без знания исторического ее контекста. И вдобавок, до сих пор распространен абсолютно ошибочный взгляд, будто нотные знаки, словесные обозначения аффекта и темпа, равно как и динамические указания, имели всегда то же значение, что и теперь. Причина в том, что на протяжении столетий музыка записывается с помощью одних и тех же графических знаков. Тем не менее, нотное письмо не является интернациональным и вневременным методом записи, действующим в течение веков: вместе со стилистической эволюцией в музыке, развитием мышления композиторов и исполнителей изменялось также и значение разнообразных знаков нотного письма. В расшифровке их содержания могут помочь трактаты, дидактические работы или параллели между музыкой и словом, хотя, опираясь только на них, мы также рискуем совершить ошибку. Итак, нотное письмо является исключительно сложной системой шифра. Каждый, кто хотя бы раз попробовал выразить с помощью нотной записи некую музыкальную мысль или ритмическую структуру, знает, что сделать это сравнительно легко. Но если попросить какого-либо музыканта сыграть записанное, убеждаешься, что звучит не совсем то, что задумано.
Таким образом, имеем нотное письмо, которое должно нас информировать как об одиночных звуках, так и о развитии целых произведений. Однако каждый музыкант должен осознать, что оно довольно несовершенно и заключенную в нем информацию не удается передать достоверно. Нотное письмо не дает нам ни одного указания относительно продолжительности звука, его высоты или темпа, ибо технические параметры такой информации нельзя передать с помощью музыкальной нотации. Продолжительность одной ноты можно было бы подробно передать с помощью единицы времени, высоту звука — точно выразить через частоту колебаний, а неизменный темп — обозначить с помощью метронома, но в музыке ничего наподобие неизменного темпа не существует.
Не удивительно ли, что такие совершенно разные по стилю и характеру произведения, как, например, опера Монтеверди и симфония Густава Малера, записаны с помощью одной и той же нотации? Если мы осознаем принципиальное различие между отдельными типами и видами музыки, тем более странным кажется тот факт, что одни и те же нотные знаки употребляются где-то с 1500 года, хотя эпохи и музыкальные стили очень различаются между собою.