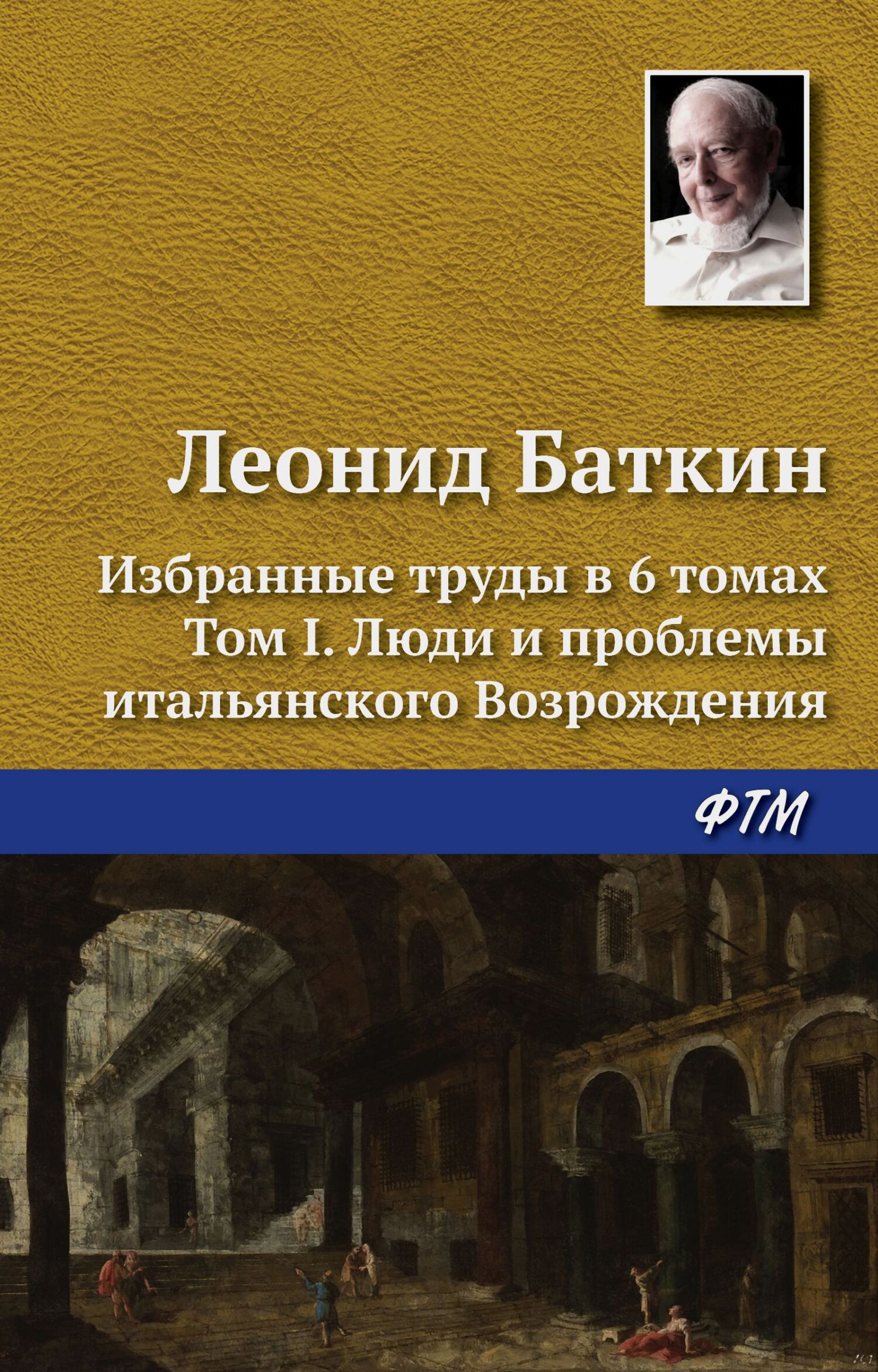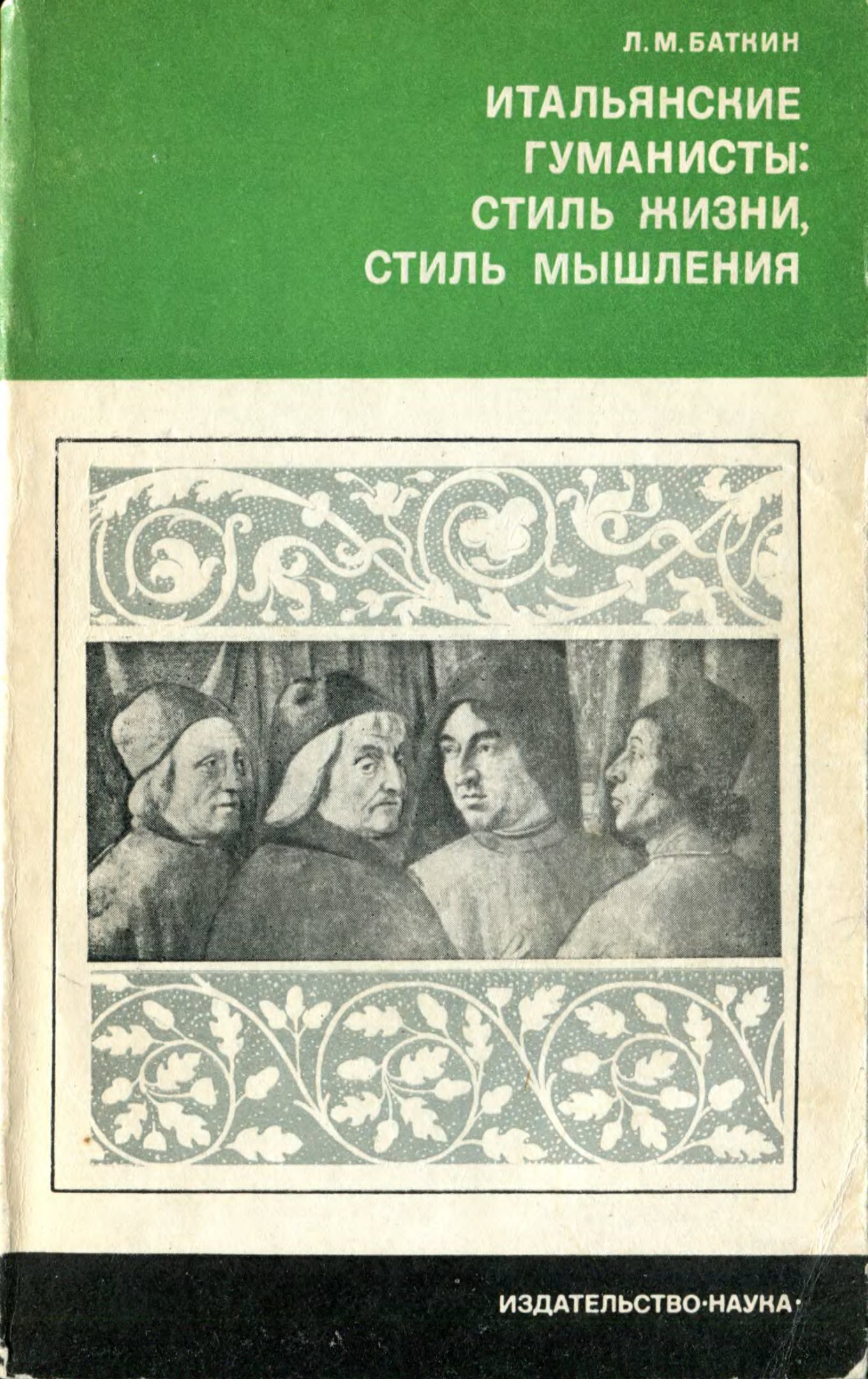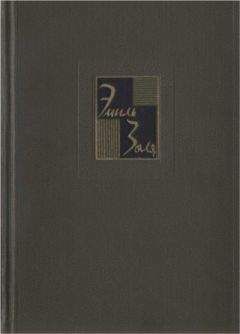не отказываясь от себя (что, по Бахтину, не нужно и невозможно) – силится понять незнакомый и поначалу далекий голос
Другого, говорящего из принципиально иной, возможно миновавшей культуры. И я нащупываю на глазах у читателей
обоюдный духовный контакт.
Интерпретатор пытается поменяться со своим героем местами. То есть: я, с неизбежным и необходимым грузом собственных эпохальных смыслов и на их новейшей мировоззренческой основе (живя в XX–XXI веках), проникаю с их помощью в инаковые смыслы, в труднопостижимое мышление Другого. Реконструируются при замедленном чтении и анализе (надеюсь, обоснованном) особенности далекого текста. И одновременно меняются – его смыслы, приближаясь ко мне. То есть к нашей культуре. Меняюсь и я сам, не сразу разобравшись, но постепенно понимая и шаг за шагом, по спирали разбора, приближаясь к автору как особенному и уникальному. Но тем самым и к нему, как одному из фокусов его эпохальной культуры в качестве универсалии. Я включаю в свою голову не присущий мне, «чужой» смысл. Он становится частью моего мыслительного, духовного пространства. Мое понимание, как и любая субъектная трактовка, не может быть неоспоримым и последним. Последнее слово, по Бахтину, всегда за изучаемым автором. Общий разговор продолжается. Включает все новых участников. И все перекликающиеся эпохи равны.
Объектный же подход, развиваясь, поднимается на следующий уровень. Тут иная логика: совершенствующегося знания. Устаревшее и ошибочное представление, само собой, отвергается. Вроде понятия флогистона при изучении горения.
Но прежний уровень – если он бесспорно доказан – остается, коли он таков, наряду с впервые достигнутым. Включается – в нашем примере – в новую перспективу знаний о горении. В более богатое и иначе устроенное знание. В последнее – на данный момент – слово.
Вроде ньютоновой механики макромира, которая после создания квантовой механики стала частью гораздо более сложной картины.
Или подобно, скажем, истории телескопов, которые сперва становились просто все более мощными, а совсем недавно были вынесены в космос и, не отменяя оптических наблюдений со времен Галилея, следят за другими типами и диапазонами излучений. Так за каких-то несколько десятилетий астрофизикам стало известно о Вселенной неизмеримо больше, чем за все века рассматривания и исследований неба. Вплоть до открытия достоверно существующих, но пока совершенно загадочных «черных дыр», «темной материи» и пр.
А в истории культур как диалоге культур – нет никакого «последнего слова». Нет слова более истинного, чем предыдущие. Культура искусства или философии не знакома с иерархией: «кто выше». В ней царит равноправие по горизонтали и вертикали. То есть и между современниками, и при смене поколений. Культурный диалог распахнут в будущее. Он нескончаем, в него вступают потомки и потомки потомков. Или лучше узнанные соседи на Земле. Круг участников расширяется, и прежние смыслы поэтому, сохраняясь, разумеется, в адекватном виде, обогащаются в новых контекстах. Они не выше, не богаче, они – иные. В «Гамлете» полно смыслов, о которых Шекспир понятия не имел. И полно неисчислимых будущих смыслов, о которых не в состоянии догадаться мы.
В тексте есть конкретное историческое содержание, закрепленное за «Малым временем». И есть подвижное содержание и его метаморфозы в «Большом времени». Историк культуры переводит взгляд с одного времени на другое и снова назад, пытаясь их соразмерить. История культуры меняет свой умственный инструментарий. Она не Феникс. Не сгорает бесследно и не воскресает в прежнем облике. Скорее, она – меняющий свой облик Протей.
Все это – на корневом уровне – не мои идеи, а идеи гениального культуролога и филолога М. М. Бахтина. Они располагались у него в зоне совершенно новаторского прочтения литературных текстов, их поэтики и соответствующего им социального поведения. Идеи Бахтина поныне мало кто полностью разумеет. Их великолепно подхватил и переиначил по-своему В. С. Библер, выдающийся философ и логик, в сфере преимущественно истории философии и при помощи острого пинцета его собственной оригинальной логики парадокса.
Я же, в качестве всецело историка, увлеченно попытался в меру сил перенести все эти идеи на почву рассмотрения любых разнообразных исторических текстов, от содержательной переписки и автобиографий до стихов и картин. И поэтому стал маргиналом…
В несравненно меньшей степени, но до сих пор остаюсь им поныне. Об этом напомнил А. Х. Горфункель в обстоятельной и веской статье, самой обстоятельной и дельной из всего, что мне до сих пор доводилось читать о себе (А. Х. Горфункель. Мотив высокого индивидуализма: культура итальянского Возрождения в трудах Л. М. Баткина // сб. «Человек-Культура-История», РГГУ, М., 2002, с. 11–56).
Не вполне понимаю, что же такого непонятного, скажем, в констатации глубокого исторического развала между «индивидом» и «индивидуальностью» (individù – individualitè). Между данным «лицом» и «личностью» (personne – personalitè).
Если, допустим, мы видим сервиз «на двенадцать персон», употребляем это слово в значении индивидности. Но есть люди, себя сознающие в обращенной на себя и мир индивидуальной рефлексии, в качестве личностей.
Уже с первобытности и во всех традиционалистских обществах – индивиды понимали свою отдельность, свою помещенность в надиндивидную общность, в совместное существование. Вживленные в эту общность (племени, общины – аграрной либо городской, либо религиозной – или цеха, сословия, монашеского ордена, фамильного рода и пр.)
И есть люди Нового времени, вполне сознающие свою и других лиц особенность и неповторимость, видящие в этом высокую ценность. Первым отчетливо заявил об этом Руссо.
Короче, «индивидуальность» и «личность» – понятия, обладающие напряженными 1) ценностным и 2) регулятивным (в кантианском смысле) значениями. Это пронизывает структуру общества и взаимоотношений в нем. А слова «индивид» и «персона» не означают ничего, кроме умения идентифицировать себя и других в качестве вот этого меня, вот этих других.
Предисловие к первому изданию книги «Итальянское Возрождение: проблемы и люди»
Я позволю себе начать первый том, воспроизведя из первого издания несколько замечаний личного свойства.
В научных книгах замечания такого рода справедливо считаются неуместными. Но, может быть, стоит все же кое-что вспомнить и рассказать о характерных обстоятельствах, предшествовавших появлению собранных в этой книге работ.
Я родился и жил до 1968 г. в Харькове. Расстояние между этим советским городом и Флоренцией, где пять веков тому назад действовало большинство персонажей книги, слишком уж огромное, просто-таки неимоверное. (Речь, разумеется, не о географии.) Первые итальянцы, которых мне довелось увидеть, были акробатами, приехавшими на гастроли в харьковский цирк в начале 60-х годов. А сам я смог впервые провести несколько дней в Риме и Бари – после 36 лет занятий итальянской историей и культурой – лишь в ноябре 1988 г. До этого власти не разрешали мне поездок