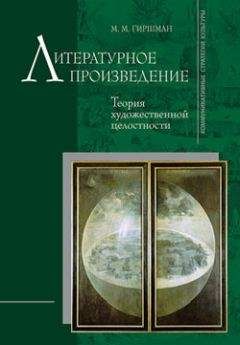Ознакомительная версия.
После этого небольшого экскурса в поэзию Брюсова мы легко увидим в «Антонии» именно мысль-страсть с характерными признаками предельной общности и гигантизма. При неизменной «громадности» страсти и всего того, что ради нее отвергается, мы не найдем никаких отражений качественного своеобразия именно данного конкретного чувства, его неповторимого субъекта и объекта. Даже в тех немногих случаях, когда призванные для воплощения мысли-страсти исторические персонажи наделяются какими-то характеристиками, они имеют общий, абстрактно-величественный характер: «прекрасный, вечно юный» исполин Антоний, «желанный взор» Клеопатры и т. п. Перед нами – «общая истина», «чувство мира», отвлеченное от его конкретных носителей, и в этом смысле «Антоний» вполне вписывается в любовную лирику «Венка» и других сборников зрелого Брюсова, где единственным субъектом все более и более становится страсть вообще:
И кто б ни подал кубок жгучий, —
В нем дар таинственных высот.
Но что же позволяет обнаруженному в «Антонии» типическому переживанию с характерным для него рационализмом, напряженностью и завершенной отчетливостью облечься в плоть, объективироваться в отчеканенном и застывшем «миге», в скульптурной изобразительности которого отливается доминирующая у Брюсова мысль-страсть? Что делает эту мысль-страсть «мыслью, устроенной в теле»? «Все на земле преходяще, кроме созданий искусства», – провозгласил Брюсов еще в предисловии к первому изданию «Шедевров» (1895). И волшебная сила искусства сразу же получает у него опять-таки вполне посюстороннее истолкование в культе поэтического мастерства. «Есть тонкие, властительные связи меж контуром и запахом цветка», – знает Брюсов. И тем более обосновано для него внимание именно к «контуру», который позволяет закрепить любую «мечту», осуществить любимую мысль-страсть в «отточенной и завершенной фразе». Так рядом с рационализмом и ораторством становится строгое, виртуозное владение формой – мастерство, – и на этих трех китах формируется стилевая система Брюсова, отчетливо представленная, в частности, и в рассматриваемом стихотворении.
Действительно, в каждой строфе «Антония» четыре строки четырехстопного ямба образуют стройный и завершенный декламационный период и при возрастающем значении всех ритмических акцентов 8 особенно заботливо выделяются в каждом стихе начальное и конечное ударения – главные акцентные устои восклицательной фразы. Совершенно очевидна здесь связь с традицией одического четырехстопного ямба 9 . Характерно в связи с этим, что почти во всех строках с пиррихием на первой стопе эмфатическим центром оказывается сверхсхемное ударение в начале стиха: «Ты на закатном небосклоне…», «Ты променял на поцелуй…», «Ты повернул свое кормило…», «Вслед за египетской кормой». Особенно интересный пример такого построения представлен во втором стихе второй строфы: «И императоры – за власть…», где зияние гласных указывает на необходимость чисто эмфатического выделения первого "и". Аналогичный, несколько менее явный пример эмфазы на начальном "и" находим и в конце следующей строфы («И перевесила любовь»). Рука об руку с ритмическим идет и звуковое выделение опорных сочетаний – ударных гласных и рядом стоящих согласных (см. например, во второй строфе: императоры – прекрасный – алтарь – страсть).
Все это примеры того всеобщего нагнетания – ритмического, синтаксического, звукового, – которое выступает в стихотворении Брюсова в качестве преобладающего пути интонационного и композиционного развития. Настойчивости повторяющихся декламационных ударов на всех уровнях стиха со столь необходимой для высокого лиризма торжественностью звучания здесь нельзя не заметить. Я уже упоминал, например, пронизывающую все стихотворение цепочку восклицаний с местоимением «ты» («Ты променял на поцелуй…», "Ты повернул свое кормило… " и т. п.). Это своеобразные однородные члены и в лексическом, и в синтаксическом, и в ритмическом, и в звуковом отношении. Получаются как бы своеобразные удары гонга, причем каждый следующий, вроде бы равный предыдущему по силе, звучит вместе с тем мощным усилением. Но благодаря четкой строфической организации все эти восклицания замкнуты в явно обозримую и слышимую цельность. Немалую роль здесь играет тяготеющий к афористичности синтаксис, ясные и четкие риторические периоды с частым параллелизмом и анафорами.
Впрочем, в строфике и синтаксисе легче всего заметить, кроме нагнетания, еще одну важную особенность художественной организации брюсов-ского стихотворения. При тяготении к почти афористической отчетливости синтаксического строения двухчастных стихотворных строф большинство из них членится на антитетически построенные половинки по принципу: «не страсть», все, что ей противостоит, и «всепобеждающая страсть». Закрепленный, отчеканенный в стихотворении лирический «миг» заключает внутри себя противоречие. А застывшее, остановленное противоречие неминуемо принимает форму антитезы, которая становится вместе с нагнетанием основным принципом композиционной организации стихотворения. Здесь снова нельзя не вспомнить об одической традиции в поэтическом синтаксисе, и прежде всего в державинских композициях 10 .
Столь очевидные в синтаксисе сочетания антитетического характера могут быть обнаружены и в метроритмическом, и в звуковом развертывании стихотворного текста. В строфических периодах противопоставляются друг другу как своего рода антитезы различные ритмические формы ямба: с сильным вторым или сильным четвертым слогом (у последних, как говорилось выше, чаще всего имеется сверхсхемное отягчение на первом слоге). Переход к прославлению героя, в котором олицетворяется всепобеждающая страсть, чаще всего сопровождается перенесением опорного ударения в первой половине ямбической строки. Принцип антитезного сопоставления задан уже в двустишии первой строфы, представляющей заглавного персонажа («Как исполин стоишь, Антоний, / Как яркий незабвенный сон»; ср. аналогичную ритмическую антитезу второго и третьего стиха во второй, третьей и пятой строфах; третьего и четвертого стихов в третьей, четвертой и седьмой строфах).
Обнаруживается в стихотворении и звуковая антитеза. Ключевые слова стиха «страсть» и «любовь» не только играют роль лейтмотивов, но и вызывают соответствующее антитезное противостояние. Причем особенно рельефным, естественно, является контраст наиболее звучных, сонорных согласных р и л. Сравним, например, две строфы, в этом смысле антитезно противостоящие друг другу:
Боролись за народ трибуны
И императоры – за власть,
Но ты, прекрасный, вечно юный,
Один алтарь поставил – страсть!
Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель – за тебя!
А вот соединение антитез: сначала синтаксической, а затем лексической, метро-ритмической и звуковой – внутри одной строфы:
Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.
Перед нами именно определенный принцип художественной организации, а не единичное противопоставление со строго конкретным содержанием. В этом, в частности, убеждает переход от развертывания антитезы «за власть – страсть» в первых пяти строфах к прославлению любви в шестой строфе. Стоило завершиться первой антитезе, как гимн любви оказывается реализацией антитезы новой: страсть – гибель, любовь – смерть. Антитеза эта, кстати, сближает написанного на историческую тему «Антония» с «современной» любовной лирикой «Венка», не случайно в первом издании это стихотворение было отнесено к циклу «Из ада изведенные». Ведь в стихах названного цикла и вообще в лирических стихотворениях этого периода отражается облик находящегося на грани грандиозных потрясений мятежного мира и вместе с тем жажда страстного движения навстречу этим потрясениям – «следом! следом! следом!» Одно из таких отражений – образ «любви-гибели», «всесжигающей страсти»:
Вновь тот же кубок с влагой черной,
Вновь кубок с влагой огневой!
Любовь, противник необорный,
Я узнаю твой кубок черный
И меч, взнесенный надо мной.
Я знаю, меч меня не минет,
И кубок твой беру, спеша.
Скорей! Скорей! пусть пламя хлынет,
И крик восторга в небо кинет
Моя сожженная душа.
Отмеченная связь является одним из подтверждений справедливости того, что написал Брюсов Г. И. Чулкову по поводу цикла «Правда вечная кумиров»: «Это античные образы, оживленные, однако, современной душой» 11 .
Итак, грандиозная и величественная мысль-страсть, увековеченная мастерством, воплотилась в цельном и стройном словесном сооружении, основными композиционно организующими принципами которого являются нагнетание и антитеза – столь же ораторские, сколь и рационалистические формы поэтического выражения. Поэтому-то они и оказываются столь уместными при воссоздании «общей истины» и «чувства мира». Чтобы глубже раскрыть содержательность отмеченных антитетических построений, напомним, что рационализм Брюсова не означает господства в его лирике какой-то единой рационалистической концепции бытия. Попытка найти «единую истину», как и «единого бога», приводит его к скептическому тезису:
Ознакомительная версия.