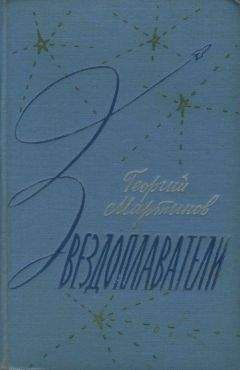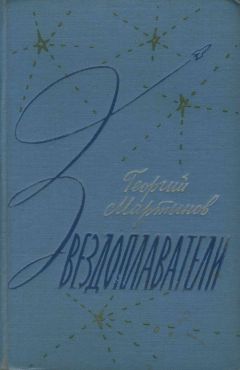* * *
Сделаю попытку показать, как «работает» текст Панюшкина, на примере одного абзаца из предваряющей книгу заметки под названием «Один день».
Итак:
«На улице академика Королева, в сотне метров передо мной, машина сбила ребенка. Два мальчика в одинаковых синих куртках, этих, которые „проверены холодом“, перебегали дорогу в неположенном месте. И автомобиль „Волга“ сбил младшего. Быстро приехал гаишник. Водитель „Волги“ и инспектор ГАИ стояли у машины и ждали „скорую“. Мальчик лежал на асфальте. С него слетели ботинки и валялись метрах в двадцати от места аварии. Это довольно верный признак летального исхода. Но офицер ГАИ и водитель „Волги“ даже не наклонились к мальчику, а просто ждали „скорую“. Я вышел из машины и соврал гаишнику, что я врач. Надо сначала пощупать пульс, но если пульса нет, это не значит еще, что человек мертв. Надо сдавить пальцами глазное яблоко, и если зрачок остается круглым, то человек жив. Можно поднести к коже зажигалку. На живых телах ожог красный, на мертвых — желтый. Мальчик на дороге был мертв. Изо рта у него текла струйка крови, как в кино. Его старший брат, живой и невредимый, стоял рядом на тротуаре, сгибался пополам и крутился, так, словно делал гимнастические упражнения. Две женщины пытались его успокоить» (с. 8—9).
Короткие, задыхающиеся, словно бессвязные фразы. Так действительно говорят очевидцы, которым трудно собрать свои слова в единый поток, поэтому они постоянно перебивают самих себя, перескакивают с предмета на предмет.
Незаметное при первом чтении, но явное «сгущение» времени и событий: если автор был свидетелем наезда, то почему он сразу не подошел к сбитому мальчику и не пощупал у него пульс, а дожидался ГАИ? Если же он не видел момента аварии, а подъехал тогда, когда гаишник был уже на месте, то откуда он знает, что тот приехал быстро? Но если объяснять все подробности случившегося, текст распухнет и потеряет всю энергетику, будет похож на разжатую пружину.
Такая мелочь, как одинаковые синие куртки мальчиков, говорящая о невеликом достатке их родителей. Совершивший наезд автомобиль — не дорогая иномарка, вызвавшая бы непременную отрицательную реакцию, а нейтральная «Волга». Тем самым потенциально снижается негативное отношение читателя к водителю, позволяет направить его эмоции в другое русло.
Рассказчик уже знает, что мальчик мертв — по такой верной примете, как слетевшие с него ботинки; проверка пульса и зрачка на первый взгляд бесполезна. Но это позволяет ввести в текст шокирующие объяснения, как грамотно отличить живого человека от мертвого, — бьющие прямо по сердцу любому родителю, чей ребенок хоть раз перебегал дорогу без их присмотра.
Внешне бесстрастное, отстраненное описание горя оставшегося в живых брата. Описание, напомнившие мне знаменитые страницы Толстого про балет и таинство причастия. Страшное по своей банальной простоте дополнение «как в кино» при упоминании струйки крови, текущей изо рта.
* * *
Бесспорно, это один из лучших фрагментов книги. Лучших по своей эмоциональной глубине, образной насыщенности и отточенному стилистическому рисунку. Именно к таким текстам я применял эпитет «агрессивные», имея в виду прежде всего то, что они гипнотизируют читателя, вторгаются в сознание помимо его воли. Даже когда он пишет о своей любимой детской игрушке, то умудряется так накалить текст, что комок в горле и прерывистое дыхание слабонервным читательницам обеспечены.
Когда обращаешься к самым сильным человеческим эмоциям, нужно быть очень осторожным. Один неверный тон, фальшивое слово — и упругий мускул текста растекается под ногами сопливой медузой. По счастью, такие фрагменты в «Незаметной вещи» попадаются нечасто. Но всегда кажется, что автор ходит по грани: еще чуть более громкий эпитет, более энергичное слово, более сильное чувство — и он сорвется в фальшь. Я верю: его помыслы чисты, цели благородны, методы проверены многолетним журналистским опытом — но все же кажется несколько странным, что взрослый, состоявшийся мужик постоянно пребывает в состоянии тихой истерики. Пусть даже только в те моменты, пока сидит за компьютером. Поэтому я всем рекомендую принимать «Незаметную вещь» малыми дозами, что убережет вас от излишних расстройств нервной системы.
Есть у Панюшкина и еще одна особенность: это его неуловимая и с трудом осознающаяся при первом чтении вторичность. Почти все сюжетные вещи и некоторые из вошедших в книгу эссе кажутся знакомыми до оскомины. Вторичность — не банальность. Только в последние два-три века главным критерием ценности в литературе стала считаться новизна, ранее думали иначе. Добросовестная компиляция и умелая адаптация ценились едва ли не больше, чем что-то заново измышленное. По сути, Панюшкин — великолепный адаптатор. Он приспосабливает к сетевой жизни старые, выношенные от частого употребления сюжеты, идеи, мотивы — и они снова становятся молодыми, бодрыми, сильными. На радость тем, кто их не узнает в таком воплощении. Как пример могу назвать превосходное эссе «Растворение в земле» — политизированное рассуждение на хрестоматийную тему «это наша земля, потому что мы в нее ляжем».
Жаль, что «Незаметная вещь» оформлена, как обычная книга. Может быть, стоило сымитировать полосу какого-нибудь Интернет-издания, той же «Газеты.ру». Тогда и тексты в ней выглядели бы живее, органичнее. Впрочем, и так она способна доставить немало сильных переживаний. Можно также посетовать на ее относительную малодоступность при столь солидном тираже: в Петербурге, например, ее нет ни в центральных магазинах, ни в лучших «элитарных». За это можно попенять издательству ОГИ, которое, как мне уже не раз приходилось наблюдать, вообще не слишком заботится о популярности своих книг и авторов.
Когда я читал книгу Панюшкина, то все гадал, что же это за «незаметная вещь», подарившая ей заглавие? Но ответ получил только на 291-й странице:
«— Странно как-то, — сказала Еся. — Бабушка умерла, а никто не плачет.
— Ничего странного, — ответил дед Исроэл. — Когда старые люди умирают в своей постели, это хорошо. Тут нечего плакать. Смерть, девочка, это вообще очень незаметная вещь. Такая незаметная, что молодежь часто думает, будто ее и нет».
И не надо притворяться, что вы думаете иначе.
Алексей Балакин
1 Цит. по: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 181.
2 Б. Эйхенбаум. Литература: Теория. Критика. Полемика. Л., 1927. С. 294.
Григорий Ревзин. На пути в Боливию. Ревекка Фрумкина
Заметки о русской духовности. М.: Проект Классика; ОГИ, 2006. 576 с. Тираж 3000 экз.
Случалось ли вам с увлечением читать сборник газетных статей одного автора? Не выбирать из книги в пятьсот с лишним страниц отдельные эпизоды, mots или еще что-либо, что вас может удивить или развлечь, а читать все подряд, откровенно наслаждаясь не воспоминаниями о моменте, когда некий опус был впервые напечатан (здорово он/онаимтогдаврезал/а! ), а воспринимать каждый текст как живой, открывающий неизвестное или помогающий иначе посмотреть на то, о чем вы, казалось бы, и без того имеете свое мнение. Я такого что-то не припомню. Хотя читаю вроде бы много…
Газетный и (тонко)-журнальный текст, будь он даже изыскан, насыщен, ранее вами не читан и к тому же не слишком привязан к моменту первопубликации, со временем все равно теряет энергию исходного посыла и увядает. Если раньше это была настоящая еловая ветка, то теперь перед вами вроде бы та же ветка, но — увы, пластмассовая. Она не пахнет хвоей — так ведь и не должна…
Передо мной, несомненно, исключение из того, что я до сей поры полагала правилом: книга Г. И. Ревзина «На пути в Боливию». Это сборник его статей за девять лет, опубликованных преимущественно в газете «Коммерсантъ» (статьи эти я почти не читала, поскольку эту газету не выписываю), а также в журналах GQ и AD (их я тоже не выписываю). Зато я читала Ревзина в специальных архитектурных журналах «Проект Классика» и «Проект Россия», и, надо сказать, это всегда было не только про архитектуру, но прежде всего — про жизнь. Поэтому, как ни далека я от пластических искусств, эти его тексты я даже цитировала.
Книгу Ревзина «Очерки по философии архитектурной формы» (М., 2002) я тоже читала, а вот «Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века» (М., 1992) оказался мне не вполне «по зубам», хотя безусловно интересен.
Короче, я представляла себе, что Ревзин может писать про все, но никак не ожидала, что это «про все», будучи собрано под одной обложкой, может получиться так масштабно и всякий раз — «в яблочко».
Вот тексты в самом трудном жанре — в жанре посмертного портрета недавно ушедших от нас людей. В этом случае читателю всегда кажется, что главное-то и упустили. Ревзин сумел лаконично и точно высказаться о Лотмане, Бибихине, Аверинцеве — всех их я многократно слушала и читала, а с Лотманом и Бибихиным еще и была знакома, причем задолго до их славы. Тем больше у меня было бы оснований придраться — а не к чему. Не менее замечательны и портреты, к счастью, вполне здравствующих наших современников. Ревзин меток, ироничен, откровенно смеется над манерой иных авторов писать о выдающихся деятелях непременно «с придыханием» — но никогда не жесток. Уникален в исполнении Ревзина портрет Вяч. Вс. Иванова — тут у меня и вовсе полувековой запас личных наблюдений, но мне так ни в жизнь не написать (см. статью «Умберто Эко получил Австрийскую премию»).