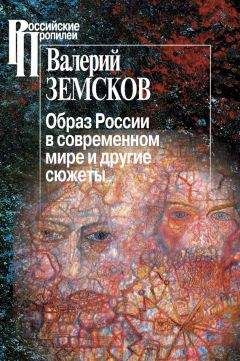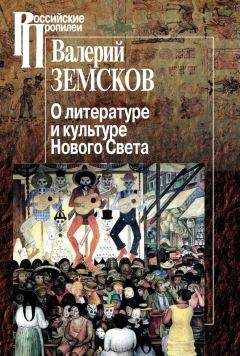Ознакомительная версия.
«Картины мира», которые возникают на основе трех разновидностей «креста», порой радикально различны, причин этому много, и среди них такая – на макроуровне – важная, как способность и активность контактности по отношению и к новооткрытому, и к своему собственному прошлому и современному культурному опыту.
Как исторический опыт, так и потенциал нового культурного конструктивизма был весьма различным в трех вариантах.
Наибольшей открытостью и наибольшим позитивным историческим потенциалом межцивилизационного контактирования обладала пиренейская культура – и в далеком (давний средиземноморский культурный синтез), и в ближнем историческом измерениях (плодотворнейший контакт с мавританской и иудейской культурами).
Русские, как и испанцы, постоянно жили на границах с иными культурными мирами, в частности, в тесном взаимодействии с финно-угорскими племенами. Однако такие обстоятельства, как враждебная конкуренция с западным христианством и опыт не только «отрицательного», но и позитивного взаимодействия с монголами, уровень которых, однако, несопоставим с арабо-мавританским наследием, возможно, предопределили специфический вариант настороженной, изоляционистской ориентации русского культурного сознания, но при сохранении больших возможностей и позитивного взаимодействия на уровне обмена культурными ценностями.
Свойственный англичанам островной изоляционизм и жесткая враждебность по отношению к «чужому» даже в пределах своей микроойкумены (ирландцы, шотландцы) в известной мере предопределили еще более жесткие варианты в контактах с населением Нового Света.
Различный характер взаимодействия предполагал и различие религиозно-культурных стереотипов: мощно выраженный пафос конверсии «иного» любыми способами в испанском католицизме; охранный и мироотреченческий пафос православной идеологии, в классическом варианте, не отрицающий, но и не предполагающий широкий контакт с «чужим»; наконец, совершенно особый характер отношений с «иным», выработанный пуританизмом.
* * *
Испанская конкиста оставила огромное культурное наследие. Мне уже приходилось обосновывать тезис о том, что она была далеко не только военной кампанией, что испанский феномен «открытия-конкисты» предстает как «взаимосвязанный и двуединый длительный и высокоидеологизированный историко-культурный процесс, основывающийся на определенной правовой и философской платформе»[254]. Это был не только деструктивный процесс («черная легенда»), но ярко обозначенный созидательный конструктивизм. Наиболее ярким явлением в этом плане стала захватившая примерно две трети XVI в. полемика общеевропейского значения о Новом Свете и его населении, которая шла по обе стороны Атлантики между правоведами, философами «имперской» партии и гуманистами, защитниками индейцев, – полемика, которая на общеевропейском уровне заново поставила и пересмотрела многие коренные вопросы – о сущности и границах человеческого, о сути культуры и религии, о справедливых и несправедливых войнах и т. д.[255] Аргументами в этой полемике были выдающиеся труды энциклопедического характера Бартоломе де Лас Касаса («История Индий»), Бернардино де Саагуна («Всеобщая история событий Новой Испании») и множество других, внушительный корпус хроник и историй[256].
Отзвуки и проекции этой полемики можно найти в сочинениях самого широкого круга крупнейших авторов периода вступления Европы в Новое время – среди них и Эразм Роттердамский, и Томас Мор, и Монтень, и Сервантес, и Шекспир. Пространства Нового Света стали волей истории полем крупнейшего в мировой истории «эксперимента» по межцивилизационному взаимодействию в ходе массовой кампании христианизации коренного населения. В испанской зоне столкнулись два типа эсхатологизма – коренного населения, оказавшегося свидетелем крушения своего мира «по воле богов» – и эсхатологизма европейского (для него новооткрытые земли – поле для создания подлинно христианского мира, в отличие от «испорченной» Европы). Это столкновение породило мощную созидательную энергию, культуростроительную эсхатологическую доминанту, определявшую основы нарождавшегося нового цивилизационного типа, который впоследствии будет назван латиноамериканским.
Авторы хроник и трактатов о Новом Свете, начиная с писем Колумба, создавали картину нового мира на основе инверсионной комбинаторики (в зависимости от точки зрения и идеологической принадлежности в полемике о Новом Свете) парной мифологемы «Рай – Ад», вырабатывали ключевую топику, стилемы «рая» Нового Света. Все сыграло огромную роль в утопической линии развития европейской культуры и было положено в основание зарождавшейся латиноамериканской культуры[257], неразрывно связанной с эсхатологически-утопической доминантой. Францисканцы и другие ордена проводили массовые крещения индейцев, с пассионарной страстью пытались воплотить в жизнь милленаристский миф, исходя из идеи о «природном христианстве» индейцев; своеобразными наследниками францисканцев стали в XVII в. иезуиты, которые в парагвайских редукциях в теократическом варианте пытались вернуть к жизни общество первоначального евангелизма.
Культуростроительная роль бинарной оппозиции «Рай-Ад» в формировании латиноамериканского цивилизационного сознания, идеологии латиноамериканизма в разных его вариациях в художественной культуре (от Симона Боливара до Хосе Марти или Хосе Васконселоса, от Андреса Бельо до Габриэля Гарсиа Маркеса) и далее в мессианистской идеологии и практике латиноамериканских левых 1960-1970-х годов, в эсхатологизме кубинской революции, «теологии освобождения» уже в определенной мере изучена отечественной латиноамериканистикой[258]. Обнаруживается, что, какие бы трансформации ни переживала в дальнейшем латиноамериканская культура на пути модернизации, ее идентичность (если брать уровень цивилизационного, художественного сознания) всегда будет связана с описанными истоками. Утопии отмирают, но язык культуры, трансформируясь, остается верным своим истокам.
* * *
Как уже отмечалось, на начальном этапе формирования идеологии английской экспансии многое сближает ее с испанским вариантом и в плане общих легендарно-мифологических источников и в плане связи с общеевропейской хилиастической традицией; несомненно, английские авторы использовали тот круг мифологем, что выработали испанцы для описания «картины мира» Нового Света. Об этом свидетельствуют такие относящиеся к начальному этапу сочинения, как «Открытие обширной, богатой и прекрасной Гвианской империи» (1596) пирата и авантюриста Уолтера Рэли и «Правдивый рассказ о событиях, случившихся в Виргинии со времени образования этой колонии» (1608) Джона Смита[259]. Для первого автора характерна «аркадийская» стилевая доминанта, второй – комбинирует стили в описании индейского мира, но в целом их повествования не страдают той редуцирующей полноту мира догматичностью, которая будет свойственна сочинениям пуритан.
Следы двойственности обнаруживаются и в идеологии, и в практике первых поселенцев-пуритан в Новой Англии (Плимут, 1620, Салем, 1628, Бостон, 1629 и др.), совмещающих христианско-общинные, милленаристские идеи с новыми, которым принадлежало будущее. Однако то была всего лишь старая оболочка, кокон, из которого вылупливались новая идеология и новая культура, воплощенная в самом типе пуританина-раскольника. «Святые» пуритане, которые, порывая с Европой и отправляясь в неведомое будущее, произносили: «Прощай, Рим», «Прощай, Вавилон», в своей эсхатологической истовости могут сравниться лишь с францисканцами, а еще больше с русскими раскольниками, только они, в отличие от русских, были носителями прямо противоположных тенденций – не консервативных, общинных, а модернизационных, частноиндивидуалистических, принципов, свидетельствовавших о наступлении новой эры.
Как и францисканцы или доминиканцы, некоторые пуритане поначалу немало сил отдавали миссионерской практике среди индейцев, причем, в отличие от францисканцев, они, казалось бы, осуществляли свою деятельность на более надежных основаниях и в этом сближались с доминиканцами, которые, как и пуритане, апеллировали не к эмоциям окрещаемых, а к разуму.
Исследователи сравнивают такие две крупные фигуры испанского католического миссионерства (в доминиканском варианте) и миссионерства английского, пуританского, как Бартоломе де Лас Касас и Джон Элиот[260]. И Лас Касас, и Джон Элиот обращались к разуму индейца, исходя из представления о том, что индейцы – заблудшее колено Израилево. Но для Лас Касаса к спасению способны все, а для Джона Элиота лишь избранные Божьим предопределением судьбы, хотя и не отмеченные избранностью могут совершенствоваться, строго соблюдая установленный договор с Богом. В отношениях с индейцами пуритане, как и в отношениях с европейцами, руководствовались принципами индивидуального отбора, договорных отношений, сознательности, подтверждаемых, в первую очередь, соблюдением условий личной материальной ответственности. И хотя у английских пуритан были отдельные блестящие достижения в миссионерской практике XVII в.[261], тем не менее их результаты и культурные последствия несопоставимы с результатами в испанской зоне. Различие было предопределено разницей исходных принципов, на которых строились отношения с индейцами: у испанцев – на «глубине» мифа, у англичан – на поверхностном уровне логики и «юридизма». В масштабах культуры это блокировало взаимопонимание на почве религиозно-культурного синкретизма, что было главным культурообразующим фактором в испанском варианте, а в варианте английском предопределяло отказ от сотрудничества с «окончательно падшими» существами, а впоследствии – практику вытеснения, истребления коренного населения или заключения его в резервации.
Ознакомительная версия.