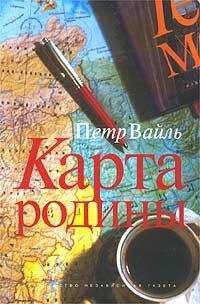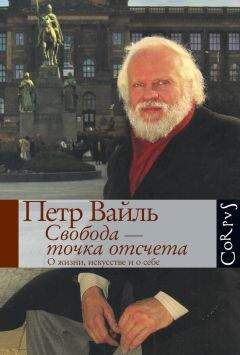Ознакомительная версия.
Русские интеллигенты уверены, что таких, как они, больше на свете нет. Расхожая схема: в России — интеллигенция, на Западе — интеллектуалы. Противопоставление надуманное и бессмысленное. Интеллектуал — определение техническое: человек, занятый умственной деятельностью. Интеллигент — тот, чьи умственные, духовные и душевные интересы выходят за пределы работы и семьи. Таких сколько угодно на Западе, они отдаются по-настоящему, истово — пацифизму, феминистскому движению, борьбе за выживание кашалотов, за права индейцев, за спасение совы в лесах Северной Дакоты.
Российское чванство — интеллигенция существует только в России! — безосновательно, но ясны истоки. Западный интеллигент доводит до конца свою интеллигентскую деятельность, российский — нет. Западный борется за сову и спасает сову, русский борется за сову на своей кухне и оттуда никуда не уходит, а сова гибнет вместе с озером Байкал. Крыть нечем, и остается биться за термины: там у них что-то другое, а интеллигенция — это мы. Тоже утешение.
Тяжелый и неблагодарный труд — вечный неутомимый поиск своего пути, особенно если искать на исхоженных-изъезженных делянках мировой цивилизации. Россия в культурном отношении есть часть Запада, и только тяжелейший комплекс неполноценности от бедной жизни заставляет говорить про свой путь. Мы все выросли на европейской и европеизированной культуре. Отношения мужчины и женщины у нас заложены не персидскими стихами, а песнями трубадуров, потому что на них росли Пушкин, Тютчев, Толстой и Пастернак. Когда в 60-е годы в России заново обсуждали проблемы западников и почвенников, то апеллировали соответственно к Хемингуэю и Фолкнеру, а не к Кобо Абэ и Кавабате. Стоит спокойно и смиренно признать, что мы лишь следуем испытанным образцам, что все уже где-то было до нас: и больные вопросы, и подъемы, и спады. Эти вечные разговоры о кризисе русской культуры — классический пример исторического невежества. Кризис — естественное содержание культуры. Искусство интересуется только конфликтами, только кризисными положениями — в иных случаях получается «Кавалер Золотой Звезды» или газетная заметка «Будет щедрым гектар». Соответственно вокруг конфликта царит суета, нервозность и паника. Таким паническим визгом наполнена вся история мировой культуры. Думать, что это происходит только в наши времена и на наших меридианах, — самодовольство и узость.
Все-таки Россия еще очень молодая страна, присутствующая на политической и культурной карте мира лишь с петровских времен, а ощутимо — с екатерининских. Мы поздно вошли в мир, чем и объясняется торопливость в самоутверждении, настаивании на самобытности и особости.
Будто можно обрести свой путь по приказу, с одной стороны, а с другой будто может существовать великий народ без своего пути. Все происходит естественно, и никак иначе. Если иначе — возникает тревога.
Россияне часто повторяют: Запад Россию не любит. Когда речь о государствах — не до любви, тут вступают в силу другие категории: доверие, надежность, добрососедство. В политическом отношении Запад Москве не доверяет, опасается, чему есть основания: в новейшей истории Россия сделала все, чтобы ее боялись и не верили. А чем настойчивее распространяться об особом пути, тем больше опасений. Представим соседа, который все твердит про свой путь — черт знает, чего от него ждать: может, керосину выпьет, а может, ножом ударит.
Как далеко завел меня свой сюжетный путь от Шахи-Зинды. Пора возвращаться.
В Самарканд влекли не только узбекские, но и семеновские древности. В Ташкенте дали адрес Тихоновых — ближайшего ответвления фамилии Семеновых. Добраться оказалось не просто: не потому, что на окраине, не так уж огромен Самарканд, а потому, что все улицы перекрыты — идет футбольный матч на первенство города, а говорят, русские ничему местное население не научили, кроме известного «водку-матом-стоя». Белая мазанка в буйной зелени — совершенно не здешняя по облику и духу, сюда не доносится шум узбекского футбола. Посидели под цветущей яблоней за чаем с вареньем из шелковицы, к вечеру собралась вся самаркандская родня. Пошли тосты — долгие, печальные, перерастающие в истории о прошлой и нынешней жизнях, забывающие о задаче выпить, потому что рассказывающему впору запить. «Знаешь, как теперь наша улица называется? Вера Ивановна вон жмурится, слушать не хочет, а ты слушай. Мингтут, вот как! — Пенсионер, приходящийся мне сколькотоюродным дядей, смотрит с горьким торжеством. — Была Грибоедова, теперь Мингтут, я две недели учил. А Даша, думаешь, на Октябрьской живет? Как же! На Беруни. Во!»
Позже всех приходит сосед и дальний родственник, которого приветствуют с откровенной завистью: он завтра уезжает в Саратовскую область, навсегда. «Пиши, как устроишься. Только не перепутай: улица наша — Мингтут». Тихоновым сняться не под силу: здешние цены бросовые, за дом с участком больше двух тысяч долларов не дадут, а это не подъемные, да и кто где их ждет в России, русских узбекистанского подданства.
«Такие люди все никак примириться не могут, — говорит экскурсовод Надя, с которой мы на следующий день ходим по Самарканду, — А я считаю, что исторический процесс создает условия, в которых нужно объективно существовать, правильно?» Еще бы не правильно, куда деваться, молодец Надя. Она девушка основательная, сразу после знакомства сообщила: «Я очень увлекаюсь духовным развитием» и огорчилась, когда я попросился первым делом на рынок. Поели изюму — лучшего во всем Мавераннахре. Еле отбились от покупки боевого барана — тагаля, короткошерстого, на высоких, на высоких беспокойных ногах. «Товарищу не нужен тагаль, он улетает в Прагу, там не держат баранов», — рассудительно объясняет Надя. «Я вообще барана только как шашлык воспринимаю», — говорю я, и зря. Бараний хозяин бледнеет: «Тагаль нельзя на шашлык! Я лучше на шашлык сам лягу! Какие вы, русские, дикие!» Окружающие согласно кивают: дичь, что с них взять.
Ходим среди золотистых гор навата — вареного кристаллического сахара, парварды — белых приторных конфет, халвы всех цветов и очертаний — круглой и плоской, цилиндрической, коричневой, желтой, красно-белой. В том же ряду сластей лежит книжка о Тимуре, Надя горячо рекомендует. Купил, но дальше предисловия пойти не удалось: сообщается, что автор, Евгений Березиков, писал, «не полагаясь на исторические источники, а путем перевоплощения». Знакомо-знакомо — опять-таки свой путь. Над рынком нависает громада соборной мечети Биби-Ханым, которую сравнивали по величию и блеску с Млечным Путем. Тимур умел строить не хуже, чем воевать. Суверенный Узбекистан взял подходящий исторический ориентир, даже с невольным политическим реверансом северному соседу. Тимур, чья империя простиралась от Сыр-Дарьи до Инда и Ганга, от Тянь-Шаня до Босфора, победил всех, кто ему попадался, в том числе Тохтамыша, который незадолго до того сжег Москву. Разгром Сарая-Берке, столицы Золотой Орды, оказал серьезную услугу Руси — настоящий тимуровский поступок.
Культ Тимура в Узбекистане повсюду. Раньше непонятно было, как к нему относиться: вроде великий воин и строитель, но и злодей, соперничающий в мировой истории с Чингисханом и Гитлером, предвосхитивший будущие масштабы зверств (только при подавлении восстания в Багдаде отрубил девяносто тысяч голов). Но дали отмашку — и Тимур стал безусловным героем, окруженным мистическими легендами. Главная — достоверная — про то, что, приняв решение о научной эксгумации тела Тимура, его прах в самаркандской усыпальнице Гур-Эмир пришли тревожить 22 июня 1941 года.
В центре Ташкента выстроили мавзолей Тимура — круглый, приземистый, с бирюзовым куполом над рядом зубцов. Экспонатов внутри немного, зато полно охраны: курсантов-милиционеров примерно вчетверо больше, чем посетителей, — может, в воспитательных целях? Посреди средоточия ташкентской общественной жизни — сквера тоже имени эмира Тимура (поместному Амира Темура) — конный памятник ему же. Здешние летописцы подсчитали, что на этом месте уже стояли одиннадцать памятников разным персонажам, меньше всех продержался Сталин, запоздало воздвигнутый лишь в 52-м.
В монументальной чехарде местной специфики нет — обычная советская история любых широт. В нынешнем Ташкенте примечательно разве что анекдотическое сооружение в районе правительственных зданий — глобус «Узбекистан»: на высоком гранитном постаменте — бронзовый земной шар с барельефной нашлепкой одной-единственной страны.
После провозглашения независимости неоригинально снесли все памятники русским классикам, кроме Пушкина. Главный режиссер ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль, мой приятель и отдаленный родственник, предполагает, что Пушкина простили за «Подражания Корану». «Он милосерд: Он Магомету / Открыл сияющий Коран, / Да притечем и мы ко свету, / И да падет с очей туман» — нечестивец, а вроде понимает. Пушкин, чья «муза, легкий друг мечты, к пределам Азии летала», в своем интересе к Востоку дальше Кавказа, по сути, не шел — впрочем, как и другие наши великие художники, определившие географию культуры. Русским Востоком был Кавказ; холодная лесная Сибирь не считалась Азией, скорее естественным продолжением России; Мавераннахр вовсе не вошел в русскую художественную традицию. Не успел: слишком поздно началось завоевание Туркестана. В России это происходило в связке — наша словесность была вооружена буквально: сочинители приходили на окраины империи в офицерской форме. Так впечатался Кавказ усилиями Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Толстого; даже штатский Пушкин попал туда с действующей армией. Туркестанская эпопея пришлась на те времена, когда в литературе офицеров-дворян сменили шпаки-разночинцы, сосредоточенные не на больших просторах, а на маленьком человеке.
Ознакомительная версия.