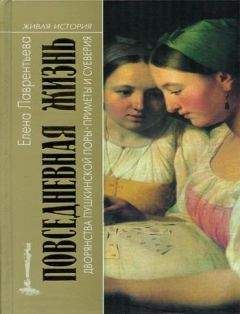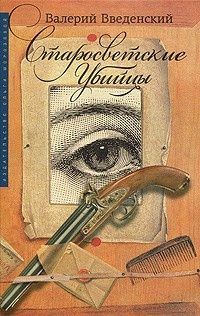Г. Морис, 27 лет, мэр и учитель в Ранфенжер Гупиттере (во Франции, в департаменте Нижне-Сенском) служил прежде унтер-офицером в гусарах, был в Египетской и Вандейской кампании и вышел в отставку; он из хорошей фамилии и пользуется всеобщим уважением. 21 числа прошлого декабря (1829) его нашли в овине одного поселянина в Сенте-Остреберте, где он лежал и спал уже с 5 числа того же месяца. В течение четырех лет с ним было четыре подобных припадка: в первый раз, в апреле 1826 года, спал он десять дней; во второй раз, в том же году, пять дней; в третий восемь дней и наконец в последний шестнадцать дней.
За несколько лет пред сим он советовался о своей болезни с доктором Пигорелем; этот искусный врач предписал ему пользование, которому он несколько времени следовал и с большой пользой; но после он его оставил, и припадки возобновились. Причиною их не пьянство, но, как полагают, расстройство в мозговых нервах. За неделю, за десять дней, а иногда и за две недели до этого летаргического сна глаза Г. Мориса показывают, что он скоро будет спать долго; они делаются светлыми, блестящими, проницательными, а веки беспрерывно шевелятся; тогда больному хочется ходить; он ищет уединения и уходит из дома, боясь, чтобы ему не помешали спать. Он всегда заходит в какой-нибудь овин или сарай и прячется под солому так, чтобы его не было видно. Перед сном он обыкновенно чувствует боль и чрезвычайный холод в спине.
Многие врачи посещали Г. Мориса и заметили у него на обеих ногах антонов огонь; это произошло не от холода, но от сильного давления обуви во время сна. Обращение крови остановилось в нижней части ног и произвело сие разложение. Надобно было бы их отрезать, но Г. Морис никак не соглашается вытерпеть операцию. Будем надеяться, что искусство врачей и послушность больного сохранят дни сего престарелого и почтенного человека.
В Виллантроа, в Эндрском департаменте, есть девушка, которая уже лет тридцать спит каждый год шесть месяцев сряду, и ее едва могут разбудить всякий день на несколько минуг, чтобы покормить ее. Иногда случается, что она шесть и восемь дней не просыпается и не принимает пищи. Нынче она спит, и врачи ожидают ее пробуждения, чтобы по ее рассказам и по тому, что уже известно, написать историю сей странной болезни.
Одна тридцатипятилетняя девица в Ториньи страдала года два истерикой. На двадцать осьмой день болезни врачу сказали, что она ночью умерла, и это удивило его тем более, что накануне он видел ее в положении совсем не опасном. Желая увериться в истине, он пришел посмотреть на нее. Лицо ее было очень бледно, губы бесцветны, но черты лица изменились мало. Она лежала с отворенным ртом и закрытыми глазами; зрачки очень расширились, свет не производил на них ни малейшего впечатления. Не было никаких признаков ни кровообращения, ни дыхания. Теплоту кожи едва можно было заметить; тело было однако ж не так холодно, как у мертвого, и не дрябло. Доктор пришел опять на другой день пред похоронами. Он заметил то же самое, что и накануне, и кожа была не холоднее прежнего; посему он запретил хоронить эту девушку, пока тело не начнет портиться. Он продолжал свои наблюдения и на пятый день увидел, что покрывала, на ней лежавшие, шевелятся; движение это увеличилось, и тогда убедились, что больная жива. Чрез несколько времени глаза раскрылись, покойница пришла в себя и совершенно выздоровела. Событие сие чрезвычайно удивительно, но не подвержено никакому сомнению. Девушка эта жива, многие видели ее в сем положении и могут убедить неверующих{5}.
Заживо погребенный
(Истинное событие)
Долго мучился изнурительною лихорадкою; силы мои постепенно ослабевали, но по мере истощения тела усиливались во мне душевные способности и тягостное сознание бытия. Во взорах врача и в тихой грусти товарищей видел я свой приговор: в них проявлялось одно отчаяние, и я понял, что для меня все кончено в этой жизни. Однажды ввечеру сделался перелом в моей болезни; я почувствовал необыкновенный трепет во всех членах и шум в ушах, похожий на журчанье ручья; фантастические образы, вовсе мне не знакомые, носились во множестве около моей постели; все они казались мне светлыми, прозрачными, бестелесными. Все вокруг меня принимало торжественный, лучезарный вид: мне хотелось встать, но я оставался неподвижным. Была минута, когда все мысли мои пришли в ужаснейший беспорядок: непостижимый страх умножал расстройство моего рассудка. Успокоясь немного, я опять начал приходить в себя, память моя прояснилась, я чувствовал во всей полноте духа, но не мог пошевелиться. Я слушал стоны моего друга; слезы его жгли мне лицо, и вслед за тем раздался голос моей прислужницы: «Он умер, он умер!»
Нельзя описать, как я поражен был этими роковыми словами. Всею полнотою воли моей хотелось мне доказать противное, и, при всем напряжении жизненных сил, не мог я даже открыть глаз, не только пошевелиться. Тут подошел ко мне друг мой: с непритворными рыданиями прикоснулся он рукой к моему лицу и стиснул мне глаза, почитая меня умершим. Тут закрылся передо мной прекрасный Божий мир, но во мне остались однако же слух, чувство и страдание! Хотя и с сомкнутыми глазами, но я расслышал довольно внятно, как люди, бывшие в моей комнате, говорили, что друг мой из нее вышел; я чувствовал, как погребальщики и их рассыльные начали обмывать меня и одевать к похоронам. Их бесчувственность была для меня нестерпимее самой горести ближних. Поворачивая меня с боку на бок, они хохотали едва ли не во все горло и без зазрения совести издевались над тем, что называли уже «трупом отжившего человека». Нарядив меня как следовало, эти негодяи отошли от меня и унизительная церемония наступила. В продолжение целых трех суток посещали меня товарищи и знакомые; я слышал над собою их шепот, некоторые дотрагивались до меня пальцами. На третий день один посетитель сказал, что в комнате моей пахло уже мертвым. Наконец гроб был принесен, меня подняли и положили в него. Друг мой сам подложил мне под голову подушку и, сказав горестно: «в последний раз!», окропил меня слезами; по немоте своей я не мог ему отвечать и тем не менее чувствовал, как горячие слезы его капали мне на лицо.
Посмотрев на меня еще несколько времени, все мои ближние удалились; я слышал шум их отходных шагов и приближение погребальщиков с их черною свитой; слышал, как прихлопнули меня гробовою крышкой, как ее привинчивали; как один из двух гробовщиков вышел вон, а другой посвистывал, завертывая тугие винты; я слышал все — и был недвижим, бессловесен как могила. Скоро потом и эта работа была окончена: и этот гробовщик, перестав свистать, вероятно, тоже вышел. Все около меня стихло.
Тут остался я совершенно один в моей комнате, заключенный в тесное домовище. Но я знал и чувствовал, что мой гроб еще не был опущен в могилу; мне было темно и душно; ни одним членом не мог я пошевелиться; но я все еще не терял надежды… Я был жив! Этой надеждой, однако же, утешался я не долго. Настал день погребения, и я почувствовал, как подняли меня вместе с гробом, как его понесли, как поставили на дроги. Множество людей собралось на мои проводы; некоторые говорили обо мне с участием, с сожалением. Дроги двинулись с места; во мне было полное сознание, что меня везут в последнюю человеческую обитель, шествие кончилось, гроб снят с погребальной колесницы; по неправильности и неопределенности качки я догадался, что несколько человек понесли меня на плечах. После краткой остановки услышал я шорох веревок, которыми опутывали мой гроб, чувствовал, что качаюсь на них, опускаюсь ниже и ниже; и вот уже ножки гроба стукаются о крепкое дно могилы, веревки с шумом падают на гробовую крышку; я мог даже расслышать и то, как они упали.
Еще раз напрягаю я все жизненные силы, чтобы подать какой-нибудь знак или голос; но мертвенное оцепенение связывает мои телесные чувства. На гроб мой бросают несколько горстей земли, и за этим действием следует минутное безмолвие; потом раздается громовая стукотня лопаток и заступов; ужас мой превосходит всякие описание: меня — живого — зарывают грудами земли! Неподвижность моя продолжается, шум заступов становится тише и отдаленнее; наконец перестает совершенно: я чувствую, что могильная яма моя переполнена землею. Легкие потрясения гроба доказывают, что могильщики утаптывают ногами эту — удушающую меня — землю. Грозное молчание заступает место глухого шума…
Самое время для меня не существовало более; я лишен был средств исчислять его течение. Итак, это была действительная «смерть», подумал я, и мне придется лежать здесь до воскресения мертвых. Скоро гнилость разрушит на части мою бренную оболочку, и плотоядный червь, которому человеческое тело служит пищею, радостно поспешит на пир, приготовленный для него с таким рачением и заботой. В продолжении этих ужасных размышлений новый, непонятный и отдаленный шум раздается надо мною. Я слышу потрясения земли, которою был засыпан. Судорожно ожидаю я нападения на беззащитную плоть мою отвратительных гробовых червей, зубастого крота, жадной могильной мыши и прочих гадин, которым я — бедный, всеми оставленный — заживо обречен в жертву. Но, переходя от отчаяния к надежде, я чувствую, что другая мысль, светлая — как небесный луч, озаряет мрачность моей могилы. «Не друг ли мой, сомневаясь в подлинности моей смерти, вздумал отрывать удручающую меня землю?» И эта мысль согревает меня, уже объятого холодом смерти!