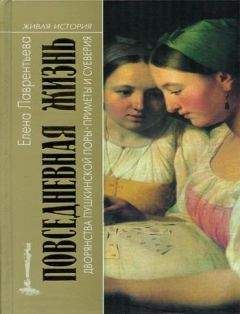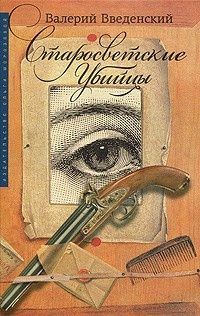Самое время для меня не существовало более; я лишен был средств исчислять его течение. Итак, это была действительная «смерть», подумал я, и мне придется лежать здесь до воскресения мертвых. Скоро гнилость разрушит на части мою бренную оболочку, и плотоядный червь, которому человеческое тело служит пищею, радостно поспешит на пир, приготовленный для него с таким рачением и заботой. В продолжении этих ужасных размышлений новый, непонятный и отдаленный шум раздается надо мною. Я слышу потрясения земли, которою был засыпан. Судорожно ожидаю я нападения на беззащитную плоть мою отвратительных гробовых червей, зубастого крота, жадной могильной мыши и прочих гадин, которым я — бедный, всеми оставленный — заживо обречен в жертву. Но, переходя от отчаяния к надежде, я чувствую, что другая мысль, светлая — как небесный луч, озаряет мрачность моей могилы. «Не друг ли мой, сомневаясь в подлинности моей смерти, вздумал отрывать удручающую меня землю?» И эта мысль согревает меня, уже объятого холодом смерти!
Но глухой шум стихает; я чувствую руку варвара, который, схватя меня за грудь, берет за голову и тащит вон из моей гробницы. Я снова чувствую живительное влияние свежего воздуха; но пронзительная его свежесть леденит мои члены, меня во что-то завертывают и тащат как вещь, как груз неодушевленный. В расстройстве чувств мне начинает мечтаться, будто бы ангелы казни влекут меня перед грозный суд грешного мира, влекут — для произнесения надо мною вечного проклятия. Протащив меня таким образом несколько времени, которого определить не имел я ни способа, ни силы, меня бросают, как глыбу земли, только не на землю. Когда я пришел немного в себя от такого внезапного потрясения, мне показалось, что я нахожусь на телеге; несколько расслышанных мной слов объясняют мне, что я попался в руки к двум гробокопателям, которые промышляли трупами для анатомического театра. Один из них, под скрип колес вдоль неровной дороги, затянул было какую-то бесстыдную бурлацкую песню. Когда телега остановилась, меня поднимают на руки и несут — куда? Неизвестно; но теплый, густой воздух ясно показывает, что я нахожусь в топленой комнате; чья-то грубая рука срывает с меня не только все платье, но и последнюю рубашку. Обнаженное тело мое кладут на стол. Из разговора двух похитителей и прислужника дома начинаю я понимать, что в этой же самой ночи предположено рассечь мой труп на части. И так я избавлен от удушения в могиле для того, чтобы умереть опять под ножом практиканта. Пусть вообразят себе на моем месте и посудят о тогдашних чувствах моей души, которая, несмотря на неподвижность членов моих и мышц, находилась во всей полноте жизни, в полном сознании ожидавших ее мучений!
Глаза мои были сомкнуты, и я никак не мог видеть причины беспрестанного шума в горнице; казалось, однако же, что в нее собирались студенты анатомии. Некоторые, подступая к столу, рассматривали меня со вниманием. Они радовались привозу к ним такого хорошего субъекта! Наконец подошел ко мне и трупоразрезатель. Но перед рассечением меня на части он предложил сделать надо мною несколько гальванических опытов. Вольтовский снаряд был принесен. Первый выстрел его пролетел молниею по всем моим нервам, они затрепетали и зазвенели, как струны арфы. Все студенты с радостным удивлением наблюдали судорожные движения мои в этой страшной пытке. Второй выстрел раскрыл мне глаза, и первым человеческим лицом, которое я тогда увидел, был врач, пользовавший меня во время болезни. Мертвенная неподвижность угнетала еще все части моего тела; но я мог уже различать лица студентов, бывших со мною на короткой ноге, во время академической моей жизни; когда же слабость сомкнула опять мои веки, тогда в ушах моих раздались утешительные звуки сострадания и боязни многих товарищей, которых приязнию пользовался я в прежние годы: им жаль было делать опыты над телом любимого ими человека и они охотно предпочли бы ему другой субъект, менее им близкий. Окончив гальванические опыты, прозектор взял нож и воткнул острие его прямо мне в грудь. Все члены мои затрещали, и судорожные движения извлекли крики ужаса у предстоявших. Ледяная кора мертвенности была пробита, — я проснулся от смертного сна. Все товарищи и друзья бросились ко мне на помощь, и через час после этого события находился я уже в полном ощущении моих жизненных способностей. Врачебная помощь и молодость довершили остальное{6}.
* * *
Дочь московского генерал-губернатора князя Михаила Никитича Волконского Анна Михайловна была за московским же генерал-губернатором князем Прозоровским, необразованным, но правдивым чудаком: (Он оставил капитал для сооружения над своим прахом церкви в Киеве; при постройке там киевской крепости склеп перенесен под одну башню.) Княжна Анна Михайловна была некогда помолвлена за прекрасного и умного человека, князя Петра Михайловича Голицына, но какие-то были козни придворные, и его, говорят, отравили, а ее по расчетам отдали за богатого князя Прозоровского. С нею был трехдневный летаргический сон, и уже собирались хоронить ее, как она стала оказывать признаки жизни. Чудак-муж имел привычку беспрестанно говорить «сиречь». Видя, что жена двигается, вместо радости он воскликнул: сиречь не к добру! Она после долго жила и была статс-дамой при Марии Федоровне{7}.
* * *
А здесь умерла княгиня Голицына, жена того, которого называли Иезуитом… когда ее обмыли, чтобы положить тело на стол, она вдруг очнулась, встает воскресшая, говорит, не узнавая своих, ни мужа, обращаясь все время к Богу или к третьему лицу, имени которого никак не могли угадать, и затем, прожив еще четыре часа, умирает взаправду. Ее похоронили вчера. Бартенева до того боится, что хочет, чтоб ее похоронили только «через месяц» после ее смерти, а прежде просила, чтобы ее щипали раскаленными щипцами. (Из письма А. Я. Булгакова дочери княгине О. А. Долгоруковой. 1834 г.){8}
* * *
Странно родилась бедная моя мать. Бабушка моя так страдала перед тем, чтоб разрешиться, что впала в летаргию; три или четыре дня ее и младенца ее считали мертвыми; день, назначенный для похорон, наступил, она лежала уже в гробу, ждали духовенство, псаломщик читал псалтырь, как вдруг стол подломился и гроб упал; от сотрясения бабушка очнулась и тут же в гробу родила бедную мою мать; и точно, жизнь, начавшаяся таким ужасным образом, тяготила ее до последней минуты. Жизнь эту можно рассказать в немногих словах: родилась в гробу, прострадала весь свой век и скончалась в чужом доме, не имея никого из ближних подле себя, даже горничной своей, которая приняла бы ее последний вздох, передала бы мне ее последнее слово!{9}
* * *
Недели через две по прибытии деда на губернаторство в Вятку он как-то случайно узнал, что у одного из богатейших тамошних купцов умерла жена, замучившись родами, но что смертных признаков нет и тело, несмотря на летнее, довольно жаркое время, оставалось невредимым, а между тем церковнослужители и все те, которым назначалась большая сумма денег в раздачу на поминовение и подаяния, спешили с пышными похоронами. Дед послал лекаря разведать о том под рукою и осмотреть тело; но лекарь явился к осмотру вооруженный анатомическим ножом, как будто имел приказание анатомировать тело. Все знают отвращение нашего русского народа от этой операции, и потому лекаря одарили, с тем чтоб он удостоверил в действительной смерти усопшей. Он так и сделал, и потому умершую отнесли в церковь, отпели, заколотили гроб, вынесли и хотели уже опускать в могилу, как вдруг является дедушка со свитою, приказывает немедленно вытащить гроб и отколотить его; сам, к ужасу предстоявших, вскрывает крышку, снимает покрывало, вглядывается в лицо умершей и, призвав всех медиков и лекарей, каких только могли отыскать в городе, объявляет им решительно, что если они не оживят умершей, то он того лекаря, который послан был от него для осмотра тела, как убийцу, самого закопает живого в могилу, а прочих велит судить как соучастников в убийстве, и вместе с тем приказывает городничему приставить к ним караул и не давать им ни пить, ни есть, покамест они не воскресят умершей. «Что ж ты думаешь? — заключил Николай Петрович. — Ведь умершая-то ожила, разрешившись мертвым младенцем! Но с тех пор деду твоему житья не было; кто бы в губернии ни умер — к нему гонец с просьбою от родных умершего: "Прикажи лекарям оживить покойника". Кто просит о родителях, кто о детях; не случалось только, чтоб мужья просили о воскрешении жен; а что всего страннее, что отказ твоего деда не считали отказом по невозможности исполнения, но по нежеланию. С тем он и вышел в отставку, что не мог разубедить в своем всемогуществе»{10}.