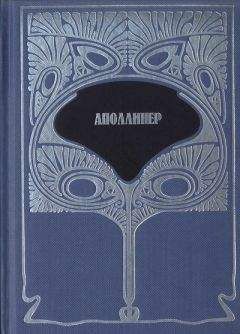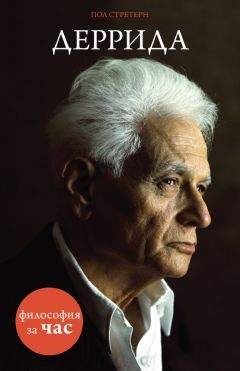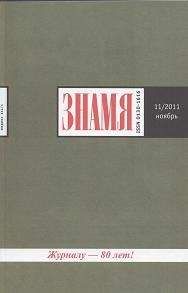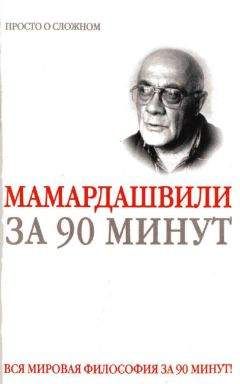В сценарии Тынянов неоднократно сталкивает Павла с монументом Петру7, при этом Павел, как правило, проезжает мимо памятника в сопровождении карлика, что вводит дополнительный мотив пародии на Гофмана и создает двойную зеркальную деформацию (колосс — Павел — карлик). Зеркальность отношения Павел — Петр подчеркивается Тыняновым: «Павел смотрит на памятник — отдает честь. Принимает величавую осанку, копируя позу памятника» (Тынянов, 1933:кадр 258).
В фильме связь Петра и Павла подчеркивается и
367
тем, что в эпизоде прибытия Киже во дворец фигурирует парадный портрет Павла, явно пародийный по отношению к петровскому изображению.
Кроме того, сама судьба растреллиева памятника Петру (чье создание описано в «Восковой персоне»), по-видимому, напоминала Тынянову фантасмагорическую судьбу Киже. В «Кюхле» писатель дает следующий исторический комментарий: «Другой предназначавшийся для площади памятник, Растреллиев Петр, был забракован, и Павел вернул его, как возвращал сосланных матерью людей из ссылки, но место уже было занято, и он поставил его перед своим замком в почетную ссылку» (Тынянов, 1989а:196). Однако вернемся к рассматриваемому эпизоду. После подхода Павла к портрету-кривому зеркалу монтажным стыком вводится новый кадр. Перед нами опять фронтально снятая декорация, почти зеркально отражающая предыдущую. Две такие же симметричные арки по бокам, но вместо центрального портрета — еще одна арка, в которой стоит навытяжку солдат, занимающий абсолютно симметричное положение по отношению к портрету Петра в предыдущем кадре. Подчеркнутая симметрия двух кадров заставляет считать караульного из второго кадра как бы отражением Петра-Павла из первого кадра. Напомним, что солдат (или солдатский мундир) — одна из главных подмен Киже в фильме (солдаты многократно даются множащимися в зеркалах). Неожиданно в боковой арке, во втором кадре, появляется Павел и идет на камеру, что исключает зеркальную соотнесенность двух декоров (поскольку в предыдущем кадре Павел шел от камеры, он не мог оказаться в пространстве, находящемся за ней). Между тем это движение императора на зрителя заставляет прочитывать новую декорацию не как стену того же помещения, симметрично (зеркально) противопоставленную первой стене, а как само Зазеркалье, — ведь только в
368
нем персонажу, уходящему от камеры к зеркалу, соответствует приближающееся отражение этого персонажа в зеркале.
Сложная симметрия декораций, помноженная на продуманное нарушение направления движения персонажа, создает на основе «ложной» реверсии точки зрения камеры ощущение подлинного проникновения Павла в зазеркальный мир. Этот символический для поэтики фильма эпизод имеет продолжение. Павел подходит к зеркалу и, приникая к нему, предается мучительным страхам и фантазиям о спасительном защитнике Киже. Перед зеркалом стоит крошечный манекенчик в мундире (реплика караульного из предыдущего кадра и соответственно — Петра, Павла, карлика), который вдруг начинает зеркально множиться в отражении.
Зеркальность здесь окончательно утверждается как знак двойственности, интертекстуальности, расслоенности, пустоты, деформирующей пародийности и по-вторности (столь принциальной для духа пародии) — иначе говоря, как стилевой прием, позволяющий преодолеть фабульность иллюстрации и найти зрительный эквивалент зыблющемуся и почти стиховому гоголевскому письму.
Вспомним еще раз о значении для Тынянова проблемы взаимоотношения стиля, сюжета и фабулы в повествовательных искусствах. Эта проблема, заявленная им как важнейшая и по отношению к кино, в теоретических текстах решена им не была. Мы уже указывали, что вместо кинематографического решения Тынянов неожиданно обратился к Гоголю. На наш взгляд, есть все основания считать «Поручик Киже» своеобразным ответом на поставленный теоретический вопрос, кинематографическим примером, способным заместить собой (опять «подмена»!) анализ гоголевского «Носа», введенный Тыняновым в двенадцатый раздел его работы.
369
Это превращение интертекстуальности в стилевой прием (а сегодня мы бы сказали — в фигуру киноязыка) весьма существенно. Оно показывает, подобно предыдущим случаям, что интертекстуальность, первоначально выступая как принцип смыслообразования, в конечном итоге генерирует киноязык.
Пример «Поручика Киже» во многом уникален, потому что именно здесь с теоретической чистотой ставится и разрешается задача порождения телесности, образности из интертекстуальной многослойности. Речь идет о почти физическом генезисе тела из взаимоотражений. Текстовый механизм в этом смысле работает так, будто он настраивает сложную систему зеркал, каждое из которых отражает частность, мнимость, но все вместе сводят свои отражения в некоем абстрактном фокусе (умозрительном пространстве интертекстуальности). Отражения здесь наслаиваются друг на друга и приобретают плотность, видимость.
В первой главе мы упоминали о проведенном Тыняновым различении между синфункцией и автофункцией (автофункция — соотнесение с элементами других систем и рядов, синфункция — соотнесение с иными элементами той же системы). Обретение персонажем тела в «Поручике Киже» основывается сразу на двух этих принципах. Первоначально Киже возникает из синфункции — уплотнения и сдвига звуковых элементов, сосуществующих в едином ряду. Так возникает его имя. Затем Киже начинает пародийно соотноситься с персонажами иных текстов — вступает в действие автофункция. Расслоенные, пародийные, интертекстуальные ипостаси персонажа вновь сводятся затем в зеркальном механизме текстового пространства. Тело Киже возникает на постоянном пересечении синфункционального и автофункционального. Интертекст проявляется в каламбурных параграммах синтагматического ряда, развивается в парадигме
370
пародийных соотношений и вновь возвращается в текст в виде тела-иероглифа, до конца не проницаемого носителя смысла, обретающего плоть.
Глава 7. Невидимый текст как всеобщий эквивалент (Эйзенштейн)
Система сдвигов, подмен, подтекстов и их сокрытий лежит в основе тыняновской беллетристики. Тынянов вводит в третью часть своего романа «Пушкин» мотив утаенной любви поэта к Е. А. Карамзиной. Одновременно с этой беллетристической версией он пишет статью «Безыменная любовь», опубликованную в журнале «Литературный современник» (№ 5—6,1939). В ней художественная интуиция романиста обрела филологическое обоснование (Тынянов, 1969:209— 232). Концепция Тынянова не получила окончательного признания в науке. Б. Эйхенбаум тактично определил ее как плодотворный результат применения в науке «художественного метода» (Эйхенбаум, 1969:383).
Однако догадка об утаенной любви Пушкина получает неожиданное и восторженное признание С. Эйзенштейна, который, прочитав третью часть романа, в порыве воодушевления пишет Тынянову письмо, так и не достигшее адресата, — писатель умер раньше, чем режиссер успел его отправить (Шуб, 1972:167— 168).
Столь восторженное признание гипотезы Тынянова кажется особенно значимым на фоне устойчивого нежелания Эйзенштейна говорить об ОПОЯЗовской литературной теории и созданных формалистами работах о кино. Эйзенштейна, как и Тынянова, чрезвычайно заинтересовала тема подмены, подтекста, сокрытия, но в совершенно неожиданном и чуждом
371
для Тынянова ключе. Его волнует не столько сама ситуация интертекстуальности (в широком понимании этого слова, когда текст получает свое полное значение через отсылку к внетекстовой реальности) сколько вопрос о некоем скрытом и загадочном эквиваленте, позволяющем сближать эти внетекстовые реальности. В письме, однако, эта проблема ставится в категориях замены одного влечения другим, фрейдовского «переноса», то есть, по существу, в категориях психологических.
Эйзенштейн ищет аналогичные ситуации в опыте культуры. В качестве аналога пушкинскому переносу чувства с Карамзиной на Гончарову в письме приводится «сентиментальная биография Чаплина». Но больше всего режиссера волнует вопрос о признаках, на основании которых может возникнуть «эрзац»-заместитель: «И теперь к Вам, исследователь и романист (то есть более вольный в догадках), вопрос: если это возможно, то чем, через что, по каким признакам Натали могла быть и оказаться подобным Ersatz 'ем? Сами заронили мысль — извольте держать ответ! <...>.
Где же те предпосылки почти рефлекторного переноса увлечения с одной на другую, по-видимому в какой-то иллюзорной уверенности и убежденности, что наконец-то действительно и непреложно найден совершенный Ersatz» (Эйзенштейн, 1966:179).
Письмо Тынянову написано в 1943 году. В 1947-м во время работы над исследованием «Цвет» Эйзенштейн возвращается к этой проблематике и предлагает собственный ответ на поставленный в письме вопрос. Этот ответ содержится в отрывке «Психология композиции», посвященном творчеству Эдгара По. Здесь Эйзенштейн прямо вспоминает о Пушкине и Чаплине (Эйзенштейн, 1988:281) и обещает «в дальнейших главах» (так и ненаписанных) вернуться к этой теме. Рассуждения о любовном эрзаце иллюстрируются