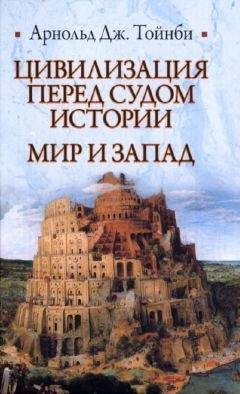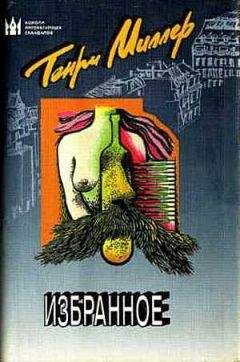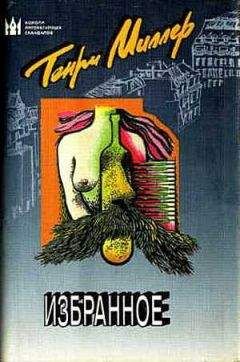class="p">115
«…более или менее добрыми, т. е. нужными для блага людей…» (152). Более широкое освещение вопроса см. в [Ваггап 1992].
Таким образом «Что такое искусство?» также теоретически обосновывает непризнание художником Михайловым чисто механической «техники» (таланта Вронского) и его недовольство похвалой из уст Вронского: «Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно» (19: 42). См. [Alexandrov 2004: 83–88].
В этой связи следует вспомнить, с каким усердием Витгенштейн читал толстовские толкования Евангелий.
См. например, дневниковую запись от 9.11.14 [Витгенштейн 2009: 65]; «Логико-философский трактат» 5.5423 [Витгенштейн 1994,1: 53]; «Blue and Brown Books», 162–179; и «Philosophical Investigations», part II, 193–229.
Такое понимание этого различия приближает витгенштейновский анализ к понятию «миф данного» У. Селларса [Sellars 1997].
См. также § 490,503–514. Ср. [Витгенштейн 1994,1:229–230,265-268] и «Blue and Brown Books», 162ff.
Zettel (нем..) – записки. – Примеч. пер.
В поздних работах Витгенштейн будет писать о «методах проецирования».
См. также [Friedlander 2001, гл. 6].
См. также [Wittgenstein 2005].
Содержательное и доступно изложенное введение в проблематику каузальных vs. нормативных отношений в теории сознания см. в [Crane 2003, гл. 3].
Можно предположить, что Толстой избегал употребления глагола «сообщаться», чтобы избежать какого-либо намека на нормативную интенциональность, непременно приписываемую произведению искусства, и тем самым уйти от некоторых проблем, возникающих в эстетике экспрессивизма, как например связь между теми чувствами, которые испытывает автор при создании произведения, и теми, которые выражает само произведение, – так, произведение может передавать или вызывать печаль, хотя автор при его создании не испытывал печали. Я благодарю Б. Шерра за то, что он поднял этот вопрос, который я попытаюсь рассмотреть в главе 8.
Толстой предпочитает употреблять слово «чувство», покрывающее весь диапазон, а не «ощущение» и не заимствование «эмоция».
Р. Воллхайм в книге «Эмоции» [Wollheim 1999] приводит убедительные и психологически обоснованные доводы в пользу того, что эмоции являются психическими диспозициями, или «установками в отношении мира». При таком понимании отчетливо нравственные эмоции могут показаться подобными, если не эквивалентными тому, что Витгенштейн называет доброй или злой волей. В свою очередь, А. Гиббард пишет: «Можно сказать, что эмоция связана с особым способом восприятия собственного мира – способом, который трудно выразить и который, может быть, можно только насвистать» [Gibbard 1990: 131], повторяя ответ Ф. Рамсея на утверждение Витгенштейна о том, что сами положения «Трактата», включая этические положения, не могут быть высказаны.
Повторным введением в оборот понятий «интенциональность» и «интенциональный объект» современная европейская философская традиция обязана Ф. Брентано (1838–1917) и его книге «Психология с эмпирической точки зрения» («Psychologie vom empirischen Standpunkt»,1874, рус. перевод [Брентано 1996: 11–94]), а также «Логическим исследованиям» (1900–1901) Э. Гуссерля [Гуссерль 2001].
Так, в книге «Бытие и время» М. Хайдеггер разграничивает страх (Furcht) и ужас (Angst) в точности по этому критерию [Хайдеггер 2003: 165–168]. (В. В. Бибихин оговаривает, что переводит Angst как «ужас», «хотя “тревога” и “тоска” здесь тоже служили бы» [Там же: 501]. – Примеч. пер.). Торми, напротив, утверждает, что настроения, в качестве эмоций, имеют неопределенные или рассредоточенные объекты [Tormey 1979], и в доказательство своего утверждения использует фрейдовский анализ Angst (в русских переводах и литературе о Фрейде – «страх» либо «тревога» – Примеч. пер.).
На вопрос, как именно следует понимать когнитивное измерение эмоций, философы, исследующие эмоции, дают разные ответы. Некоторые отождествляют эмоцию с родом суждения или убеждения ([Nussbaum 2001; Solomon, 1980]), оценки ([Lyons 1980]) либо набора убеждений и желаний ([Marks 1982: 227–242]).
Так, А. Рорти, «объясняя эмоции» в книге «Объяснение эмоций» [Rorty 1980: 489–506], утверждает, что некоторые эмоции (например, неосознанная обида) не несут в себе пропозиционального содержания. М. Стокер [Stocker 1983: 5-26] со своим известным примером «страха полета» («Я знаю, что страх полета иррационален, но страх от этого никуда не девается») и П. Гринспэн [Greenspan 1988] с примером конфликтующих эмоций («Я рада, что моя коллега выиграла стипендию, но одновременно завидую ей») предполагают, что эмоции больше похожи на желания, чем на убеждения.
Д. Робинсон толкует толстовское «заражение» как «соматический мимесис», определяемый двумя критериями: «соматическая передача» (соматическая ориентация тела передается другому телу) и «соматическое управление» (ориентация управляет «мыслями и поведением»). Затем он объединяет их, опираясь на неврологическую теорию причинной ассоциативности (теорию «соматических маркеров»: определенная соматическая ориентация запускает воспоминания о прошлом, сопутствующие которым ощущения удовольствия или боли подсознательно воздействуют на волю человека и последующее поведение). Робинсон таким образом рушит стену между каузальной соматической передачей и нормативным управлением, строя на ее обломках каузально-диспозиционную теорию принятия решений и поведения, которая успешно отрицает нормативное измерение значения. См. критику С. Крипке каузально-диспозиционных воззрений [Крипке 2005:29–34]. Более углубленно я продолжу эту линию в главе 6.
«Государство», кн. 3, 40Id. Пер. А. Егунова.
«Лекции по эстетике». Т. 3. Пер. Б. Столпнера.
«По ту сторону добра и зла». 4, 106. Пер. Н. Полилова.
Г. Уолш [Walsh 1988] убедительно доказывает, что «философские наброски» Толстого предположительно 1840-х годов демонстрируют влияние субъективного идеализма Фихте и раннего Шеллинга.
Однако 23 октября 1909 года он снова причисляет Шопенгауэра к «величайшим мыслителям (57: 158).
О влиянии Шопенгауэра на Толстого см. [Эйхенбаум 1974: 170–172; Orwin 1993: 143–170; Medzhibovskaya 2008: 121–184; McLaughlin 1970; Walsh 1988]. Особенно