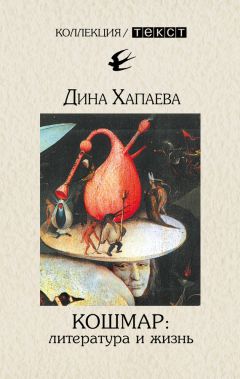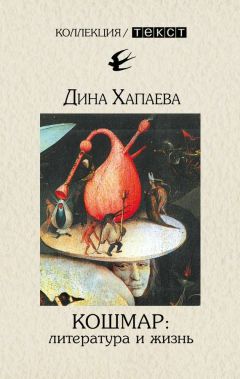Но мы, опытные читатели Гоголя, не дадим обмануть себя ни этим «пробуждением героя», ни «пробуждением» другого героя повести, майора Ковалева: «Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано…» Напротив, мы, вооружившись нашими знаниями некоторых приемов Гоголя, а главное – составив себе представление о его манере обращения с читателем, зададимся вопросом: почему Гоголь знакомит нас с обоими героями именно в момент их пробуждения? Конечно, потому же, почему первая, «пушкинская», редакция «Носа», опубликованная в «Современнике» в 1836-м, заканчивалась сном героя, что и объясняло, как обычно выражаются критики, «фантастический сюжет повести».
А что происходит дальше? Дальше мы, читатели, попадаем прямо внутрь мира Ивана Яковлевича, чувствуем запах печеного хлеба, удивляемся луковке поутру на завтрак, ежимся от ругани его супруги, немного, конечно, изумляемся находке – носу майора Ковалева, – но ведь чего на свете не бывает? Гоголь, по своему обыкновению, внимательно и постепенно погружает нас в повседневность своих героев, создает ее «насыщенное описание», из деталей которого исподволь, но непреложно проступает сон, в кошмарной природе которого никак нельзя усомниться.
Взять хотя бы похождения цирюльника Ивана Яковлевича. Ему необходимо срочно избавиться от улики – носа майора Ковалева, ибо мысль о полиции повергает его в ужас и «совершенное беспамятство». Его тщетные попытки отделаться от носа – это бегство, способное стать украшением подлинного кошмара. Оно длится по нарастающей до той роковой минуты, когда бедняге наконец удается выкинуть нос в Неву, и вот тут-то его схватывает квартальный «благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою»… [72] «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно» [73] .
Иван Яковлевич – в лапах полиции, а нос плывет по Неве, не так ли? А по прошествии нескольких страниц мы узнаем, что этот же самый нос, выкинутый в Неву (!), ездит по городу под видом статского советника с визитами. Встает резонный вопрос – так где же Нос? В хлебе, в кармане Ивана Яковлевича, в Неве или в карете и на службе в Казанском соборе? Или же он – в бумажке, в которой его приносит на квартиру к майору Ковалеву все тот же живописный квартальный? Заметим, что квартальный рассказывает о том, что он арестовал нос, когда тот пытался уехать за границу… – тот самый нос, который он завернул в бумажку и принес с собой?!
...
«Вы изволили затерять нос свой?» «Так точно» «Он теперь найден (…) его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника» [74] .
А где же Иван Яковлевич – на съезжей, куда его препроводил квартальный, или на свободе, как это явствует из заключительной сцены бритья майора Ковалева, вновь обретшего свой нос? Квартальный сообщает Ковалеву, принеся ему его нос, что роль в похищении сыграл цирюльник, хотя – информирует нас автор – Ковалев-то знает точно, что цирюльник ни при чем, ибо тот его брил в среду, а нос был при майоре еще и «весь четверток». В конце повести нос прирастает сам собой, и автор комментирует это такими словами:
...
Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия (…) [75] .
Присмотримся теперь к носу:
...
Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем (…) [76]
Нос выходит, пожалуй, самым подробно одетым из гоголевских персонажей – у кого еще в повестях, например, описаны панталоны? Следом выясняется, что у носа есть брови («Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились» [77] ), лицо («Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился» [78] ). Кроме того, оказывается, что у него есть ноги, руки, что он носит перчатки. И тем не менее всякому – и самому Ковалеву, и квартальному – очевидно, что это не господин, а нос. Получается, что это вовсе не нюхательный орган на ножках, а чистое порождение кошмара, когда мы знаем, что у него есть руки и ноги в панталонах, но это нельзя увидеть, – иными словами, у носа нет образа; выражаясь гоголевским языком – сплошное безобразие.
Далее мы присутствуем при разговоре майора Ковалева со своим носом, говеющим отдельно от майора в Казанском соборе, причем майор расстроен настолько, что не может молиться, а нос, напротив, прилежно молится. Интересно отметить, что на вопрос – почему этот разговор происходит в Казанском соборе? – читатели выдвигают очень разные соображения: например, что майор живет неподалеку, на Вознесенском, так где ж ему еще и говеть? Тогда как мысль о том, что только в абсурде кошмара верующему человеку может привидеться такой разговор молящегося носа со своим обладателем, да еще во храме, как-то не приходит в голову.
Текст с удивительной легкостью, как во сне, переключает внимание читателя с абсурда на обыденность, например, так происходит при появлении дам, как если бы перед нами был обычный роман… или обычный сон:
...
Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке легкой как пирожное [79] .
Что никак не мешает читателю, легко преодолев порог абсурда, переключиться на погоню майора за своим носом, главное действие второй части повести.
Мы можем сколь угодно предаваться рассуждению о метонимии или, например, предположить, что повесть выросла из очередной ожившей «метафоры наоборот»: парадоксальное мышление Гоголя, натолкнувшись на поговорку «остаться с носом», легко могло прийти к вопросу – а вот что будет, если остаться без носа? И подкрепить эту гипотезу ссылкой на эту тему в письме Подточиной: «Если разумеете под сим, будто я хотела оставить вас с носом…» [80]
Но как бы то ни было, встает резоннейший вопрос – что же заставляет нас читать всю эту нелепицу? Почему мы не отбрасываем книгу, а называем Гоголя великим русским писателем, а «Нос» – «одним из выдающихся произведений русской литературы»? [81]
Одно из предположений может заключаться в следующем: «Нос» позволяет распознать читателю те его переживания, которые скрыты покровом ночи, но которые представляют тем не менее существенную основу его психологического опыта, а именно опыта переживания кошмара. И не важно, отдает ли себе в этом отчет читатель, – именно способность встретиться с этим опытом, пережить его наяву, а следовательно, подтвердить для себя его психологическую достоверность (что вполне способно заменить необходимость рационального анализа) составляет для нас неотразимую привлекательность «Носа». Одна из причин, в силу которых читатель не только безропотно, но и с удовольствием следует за абсурдом сюжета, состоит в том, что он считывает с этих страниц свой собственный опыт кошмара или бреда и, пусть неосознанно, получает подтверждение подлинности значимой части своего психологического бытия. Читая «Нос», читатель переживает происходящее как подлинный сон, не удивляясь нелепице и не отдавая себе отчета в том, что он спит, но обнаруживая в литературном произведении отголосок тех же сильных эмоций, что ему случалось переживать в его собственной жизни.
Опыт узнавания психологического переживания в литературе, вполне возможно, оказывается не менее важен, чем опыт преодоления различных жизненных ситуаций или овладение практиками и стратегиями социального поведения.
Привлекательность «Носа» должна была только возрасти в последнее столетие, когда благодаря цензуре «наук о человеке» кошмар окончательно выпал из числа легитимных предметов не только рационального анализа, но даже и светской беседы.
Ибо, в отличие от других повестей петербургского цикла, в «Носе» Гоголь уже не смущается – он прямо делает кошмар главной сюжетной линией своего произведения, не пряча ее под разными не относящимися к делу соображениями. Здесь, напрямую сталкивая читателя с кошмаром, автор уже совершенно уверен в себе. Он ведет себя как опытный наездник, чью твердую руку сразу распознает читатель, и не боится, что этот последний вырвется и откажется погрузиться в кошмар. Его голос гипнотизирует нас, переключает регистры сна, заставляет нас повиноваться его предписаниям. В «Носе» мы уже не найдем прежних компромиссов между кошмаром и прозой: это полноценный кошмар, не таящийся под покровом светского сюжета или литературных дебатов.
Гоголь воспроизводит знакомые каждому, кому случалось видеть кошмар, элементы кошмарного сна, которые могли бы послужить для читателя опознавательными знаками: