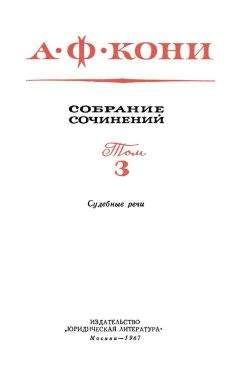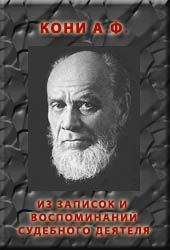Подлежавшая, по постановлению московского следователя, содержанию под стражей Митрофания была перевезена в Москву, где, если верить ее, вероятно преувеличенному, заявлению на суде, ни сану, ни полу, ни возрасту ее не было оказано уважения и законного снисхождения. Она неоднократно, во время производства дела в суде, жаловалась на тяжелое и крайне стеснительное для больной женщины содержание «в кордегардии под надзором мушкетеров». Еще находясь в Петербурге, оставленная всеми, кто не был заинтересован лично в ее оправдании, как спасении от своей собственной ответственности, она смутно предчувствовала и новые грозящие ей обвинения в многодневном судебном заседании, и отказ лучших сил адвокатуры от ее защиты, и жестокое любопытство публики, и травлю со стороны мелкой прессы, и коварные вопросы на суде, имевшие целью заставить ее проговориться и самой дать против себя оружие. Она не могла не понимать, что в ее лице будут подвергнуты суровому и красноречивому осуждению темные стороны монашеского смирения и фарисейская окраска официальной благотворительности — одним словом, все то, что вызвало впоследствии страстную отповедь одного из самых даровитых русских адвокатов Ф. Н. Плевако, воскликнувшего в конце первой своей речи: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, творимых вами под покровом рясы и обители!» *
Все это, вместе взятое, в связи с изнурительным опуханием ног, отражалось на нравственном состоянии Митрофании во время нахождения ее в Петербурге и побуждало следователя Русинова — человека, который умел соединять с энергической деятельностью сердечную доброту, — по возможности избегать вызовов обвиняемой в камеры судебных следователей Петербурга, где ее появление, конечно, возбуждало бы усиленное и жадное внимание толпящейся в обширной приемной публики. Поэтому и мне, как наблюдавшему за следствием, приходилось не раз бывать у Митрофании в гостинице «Москва» и иметь с нею разговоры, причем я мог убедиться в уме и известного рода доброте этой, во всяком случае, выдающейся женщины. Если игуменья Митрофания, перед разбирательством ее дела в московском суде, была подвергнута некоторому бойкоту со стороны видных уголовных защитников и только один из них — присяжный поверенный Самуил Соломонович Шайкевич — нашел в себе мужество не отказать ей в своей трудной и искренней помощи, то в добровольцах при следствии, думавших пристегнуть свое безвестное имя к громкому процессу, недостатка не было. Однажды мне пришлось быть свидетелем оригинальной сцены. Следователь Русинов, окончив дополнительный допрос Митрофании, собирался уходить от нее, когда ей заявили, что присяжный поверенный, фамилии которого я до того не слышал, желает с нею объясниться. Так как посторонние не допускались к ней иначе, как в присутствии прокурорского надзора, то она просила нас остаться и дать ей возможность переговорить с этим господином. Вошел юркий человечек «с беспокойною ласковостью взгляда» и, к великому удивлению Митрофании, подошел к ней под благословение. «Что вы, мой батюшка?! — воскликнула она. — Я ведь не архиерей! Что вам угодно?» — «Я желал бы говорить с вами наедине», — смущенно сказал вошедший. — «Я вас не знаю, — отвечала она, — какие же между нами секреты? Потрудитесь говорить прямо». — «Меня послали к вам ваши друзья: они принимают в вас большое участие и жаждут вашего оправдания судом, а потому упросили меня предложить вам свои услуги по защите, которую я надеюсь провести с полным успехом». — «Надеетесь? — сказала Митрофания ироническим тоном. — Да ведь вы моего дела, батюшка, не знаете!» — «Помилуйте, я уверен, что вы совершенно невиновны, что здесь судебная ошибка». — «А как же вы думаете меня защищать и что скажете суду?» — «Ну, это уж дело мое», — снисходительно улыбаясь, ответил адвокат. — «Дело-то ваше, — сказала Митрофания, — но оно немножко интересно и для меня. Я ведь буду судиться, а не кто другой!»— «Ах, боже мой! — заметил адвокат, переходя из слащавого в высокомерный тон. — Ну, разберу улики и доказательства и их опровергну». — «Да вот видите ли, батюшка, ведь уж если меня предадут суду, буде господь это попустит, так значит улики будут веские: их, пожалуй, и опровергнуть будет нелегко. Дело мое важное, вероятно, сам прокурор пойдет обвинять. А вы, чай, слышали, что здешний прокурор, как говорят, человек сильной речи и противник опасный». — «Мм — да!» — снисходительно ответил адвокат, очевидно, не зная меня в лицо. — «Нет, мой батюшка, — сказала Митрофания, выпрямляясь, и некрасивое лицо ее приняло строгое и вместе с тем восторженное выражение, — не опровергать прокурора, а понять меня надо, вникнуть в мою душу, в мои стремления и цели, усвоить себе мои чувства и вознести меня на высоту, которую я заслуживаю вместо преследования»… По лицу ее пробежала судорога, и большие глаза наполнились слезами, но она тотчас овладела собой и, вдруг переменив тон, сказала с явною насмешкою: «Так вы это, батюшка, сумеете ли? Да и позвольте вас спросить, кто эти мои друзья, которые вас прислали?» — «Мм… они желают остаться неизвестными», — ответил смущенный адвокат. — «Вот и видно, что друзья! Даже не хотят дать мне радость узнать, что теперь при моем несчастии есть еще люди, которые не стыдятся явно выразить мне свое участие! Нет уж, батюшка, благодарю и вас, и их; я уж как-нибудь обойдусь без этой помощи». И она поклонилась ему смиренным поклоном инокини.
Вскоре после этого ко мне в прокурорский кабинет пришел лохматый господин добродушного вида, назвавшийся кандидатом на судебные должности при прокуроре одного из больших провинциальных судов, и стал жаловаться на следователя Русинова, что тот не хочет отпустить на поруки игуменью Митрофанию без моего о том предложения. «Я дам охотно такое предложение, — сказал я, — но ведь предъявлен гражданский иск. Есть ли у ваших доверителей средства, обеспечивающие поручительство на такую сумму?» — «Какое обеспечение? — изумленно воскликнул пришедший. — Для чего?» И из последующего разговора выяснилось, что он не знает, что поручительство по Судебным уставам принимается лишь с денежным обеспечением, причем он с наивной назойливостью стал мне объяснять, что я ошибаюсь и смешиваю с поручительством залог. Шутливо погрозив ему написать его прокурору, какой у него невежественный кандидат, я посоветовал ему почитать Устав уголовного судопроизводства и не мешать моим занятиям неосновательными жалобами на следователя. Через некоторое время он снова пришел ко мне опять с какой-то нелепой просьбой и снова стал незнание Судебных уставов валить с больной головы на здоровую, чем мне достаточно прискучил. Когда следствие стало приближаться к концу, Митрофания, после предъявления ей различных документов и актов, неожиданно сказала, что просит моего совета — к какому защитнику ей обратиться. Я ответил ей откровенно, что обвинение против нее ставится очень прочно и что я буду поддерживать его энергически, почему советую ей обратиться к какому-нибудь сильному и известному адвокату. Я назвал ей Спасовича, Герарда и Потехина, останавливаясь преимущественно на последнем, так как в деле был гражданский оттенок, а характер простой и исполненной здравого смысла, без всякого ложного пафоса, речи последнего казался мне наиболее подходящим для защиты. «А что вы скажете о… — и Митрофания назвала фамилию являвшегося ко мне кандидата, — если его пригласить?» — «Помилуйте, — отвечал я, — да ведь это человек, ничего не знающий, неопытный и бестактный! Это значило бы идти на верную гибель. Уж лучше взять защитника по назначению от суда». — «Вот видите ли, батюшка, — сказала на это Митрофания, — я сама знаю, что он таков, но его покойная мать была моей подругой по институту, и он готовится быть адвокатом. Участие в таком деле, как мое, во всяком случае сделает его имя известным, а известность для адвоката, ох, как нужна! Если же господу угодно, чтобы я потерпела от суда, так тут ведь никто не поможет. Пускай же мое несчастие хотя кому-нибудь послужит на пользу…»
Когда наступило жаркое лето 1873 года, Митрофания стала чувствовать себя очень дурно в душной гостинице в одном из самых оживленных и шумных мест Петербурга. Повторение ее допроса предвиделось не очень скоро, и я, по соглашению со следователем, решился удовлетворить ее просьбу и отпустить ее на богомолье в Тихвин, а затем, если позволит время и ход следствия, то и на Валаам. Поездка в Тихвин значительно укрепила ее и вызвала с ее стороны в письме ко мне выражение неподдельной признательности за «утешение в горьком положении». На суде в Москве, жалуясь на «содержание в кордегардии», она сказала: «Пока я была в Петербурге, прокурор обращался со мною, как человек с сердцем: он не глядел на меня, как на осужденную, но смотрел, как на обвиняемую, которая может быть и оправдана. То же делали и товарищи прокурора Денисов и Вильямсон. Я питаю к ним и до сих пор благодарность». Эти слова не были тактическим приемом по отношению к московской прокуратуре, а были, очевидно, искренни, ибо в посмертных ее записках, напечатанных в «Русской старине» в 1902 году, она тепло вспоминает о нашем отношении к ней и наивно отмечает, что молилась в Тихвине, между прочим, и за раба божия Анатолия…