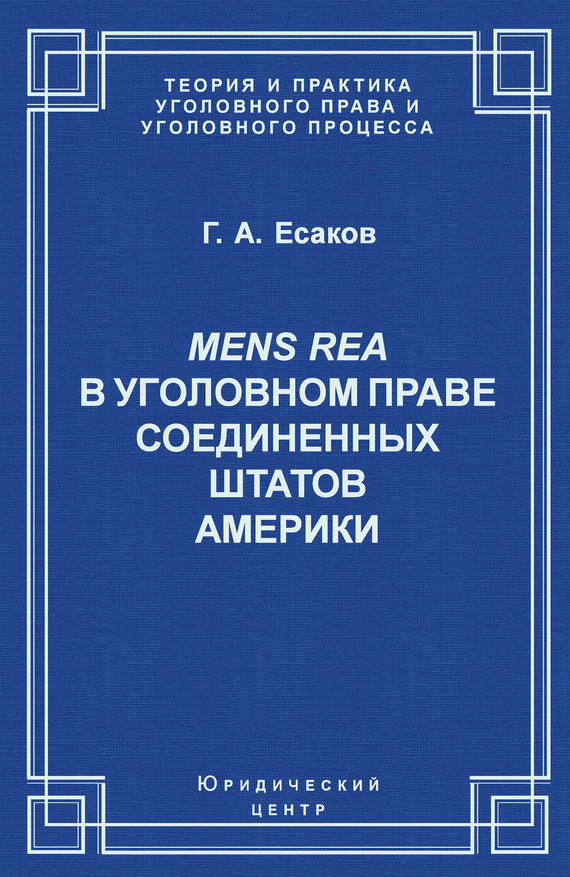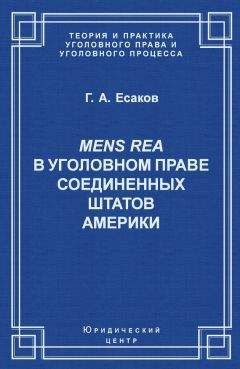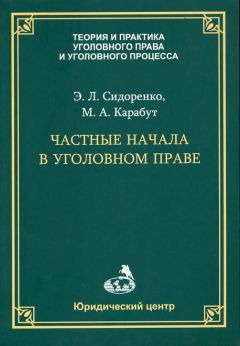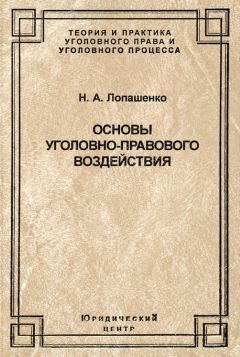нормы, специально выделяющие случаи ненамеренного убийства человека. Так, согласно гл. 13, ненамеренное
(ungewealdes) причинение смерти другому человеку падением дерева при рубке леса влечёт за собой так называемую «ноксальную» выдачу предмета, причинившего смерть, клану погибшего
(Alfred, 13). [73]
Более интересна глава 36, строго разграничивающая, на первый взгляд, случаи намеренного и случайного нанесения увечья:
«36. Далее постановляется: если человек носит копьё выше своего плеча, и вследствие этого кто-либо пронзается им, первый должен уплатить виру (wer) без вита (wite).
§ 1…. И если он обвинён в намерении (gewealdes) в деянии, он должен очистить себя клятвой, равной виту, и тем самым уничтожить притязание на вит…» (Alfred, 36).
Заслуживают внимания положения законодательства англосаксонских королей последующего времени.
В главе 52 Шестой Правды Этельреда, короля Англии (9781013, 1014–1016 гг.), изданной около 1008 г., наряду с неоднократным ударением на необходимость выносить решение в соответствии с характером злодеяния, [74] содержится следующее обширное установление:
«§ 1. Если случится так, что человек совершит злодеяние, непроизвольно или ненамеренно (unwilles орре ungewealdes cenig ping misded), то случай отличается от ситуации, в которой некто совершает правонарушение по своей собственной свободной воле, добровольно и намеренно (willes & gewealdes sylfwilles misded) (курсив мой. – Г.Е.); и подобным же образом тот, кто непроизвольно действует в своих злодеяниях, должен всегда иметь право на милосердие и более лучшие условия вследствие того факта, что он действовал непроизвольно» (VI JEthelred, 52, § 7).
Положение, аналогичное только что приведённому, встречается в §§ 2–3 главы 68 Второй Правды Канута (II Canute, 68, §§ 2–3), датского короля Англии (1016–1035 гг.), изданной, вероятно, между 1029 и 1034 гг.:
«§ 2. Подобным образом, во многих случаях причинения вреда, когда человек действует непроизвольно, он вправе более рассчитывать на милосердие, поскольку он действовал так, как будто он действовал под принуждением.
§ 3. И если кто-либо совершает что-нибудь ненамеренно (;ungewealdes), случай всецело отличается от случая с тем, кто действует намеренно (gewealdes) (курсив мой. – 727?.)» (II Canute, 68, §§ 2–3).
Бесспорно, эти нормы действительно можно было бы рассматривать как prima facie подтверждение того, что будущая категория mens rea зародилась уже в англосаксонском уголовном праве.
Вторая из упомянутых ранее точек зрения, отстаивающая юридическую иррелевантность психического состояния деятеля для наступления ответственности по англосаксонскому уголовному праву (говоря иначе, концепция строгой или, что более точно, абсолютной ответственности), была обоснована Фредериком У. Мэйтландом следующим образом:
«Стоило признать, что смерть человека была причинена деянием другого, и этот другой нёс ответственность независимо от того, каковы могли быть его намерения или его мотивы (курсив мой. – 727?.). К этому принципу наши доказательства склоняют нас… На своей ранней стадии развития право рассматривало намеренное убийство как не более худшее по сравнению с ненамеренным… Оно не могло выйти за пределы видимого факта. Ущерб есть ущерб и за него должно уплатить. С другой стороны, если не причинён ущерб, не совершено и преступление». [75]
Итак, согласно данной концепции, для англосаксонского уголовного права не имел юридического значения тот морально упречный психический настрой ума деятеля, с которым впоследствии будет связано понятие mens rea. Независимо от того, была ли смерть человеку или же вред его здоровью либо ущерб его имуществу причинены намеренно, по небрежности или случайно, деятель должен был нести ответственность. Именно она представляется в своих общих чертах верной в приложении к англосаксонскому уголовному праву.
Для обоснования отстаиваемой точки зрения необходимо прежде всего согласовать её с процитированными ранее отрывками из англосаксонских правд. Здесь можно привести несколько соображений, которые, как представляется, являются правильным истолкованием приведённых положений англосаксонского уголовного права.
Во-первых, навряд ли непрофессионализированная система отправления правосудия в англосаксонскую эпоху могла удовлетворительно проводить различие между намеренным и случайным. Это, как отмечает Фредерик У. Мэйтланд, «является, вероятно, наилучшим объяснением норм такого рода». [76] Кроме того, можно указать и на идею справедливости, воплощённую, согласно бытовавшим тогда воззрениям, в Божьем суде, изначально защищающем и, что более важно, не могущем не защитить невиновного и покарать злодея. При этом вопрос о виновности или невиновности ответчика, выходившего на битву с обвинителем, зависел, как справедливо отмечает Францис Б. Сэйр, не от «утончённых вопросов о намерениях, но, скорее, от способности обвиняемого сражаться». [77]
Интересно то, как сторонники противоположной точки зрения объясняют этот момент в приложении к своим взглядам. Так, Перси X. Уинфилд, признавая отсутствие в англосаксонском праве развитого механизма для установления психического состояния человека, всё же отстаивает оспариваемую концепцию на том основании, что «ни одно вменяемое человеческое существо, из древности либо из современности, не нуждается» в дополнительном образовании для того, чтобы рассмотреть и разрешить вопрос о состоянии ума обвиняемого. [78] Здесь, как представляется, имеет место смешение способности (возможности) установления психического состояния и юридического значения последнего: бесспорно, в англосаксонскую эпоху люди могли рассмотреть и оценить настрой ума деятеля, но они не стремились придать ему универсального правового значения. Его же ссылка на то, что англосаксонское право на «подсознательном» уровне придавало юридическое значение состоянию ума человека, [79] вызывает лишь недоумение.
Следуя далее, можно указать и на пережитки кровной мести, всё ещё сохранявшиеся в ту эпоху, [80] которые исходно предопределяли острую вражду между двумя сторонами, встретившимися на суде, так что позволить одной из них остаться безнаказанной в силу весьма умозрительного довода о случайности с неизбежностью означало бы вместо восстановления мира в общине, бывшего основной целью права и судебных процедур в то время, [81] провоцирование нового кровавого конфликта. Естественно, что меньшим из двух зол в такой ситуации виделось взыскание денежной компенсации с лица, причинившего смерть другому или нанёсшего ему увечье, независимо от того, намеренным, небрежным либо же случайным было деяние. При этом существовавшая и широко распространённая практика своеобразной «солидарности» (условно говоря) рода потерпевшего и рода обвиняемого в деле, соответственно, получения и уплаты выкупа (либо, в исключительных ситуациях, осуществления и претерпевания кровной мести) [82] очевидно не способствовала индивидуализации обидчика и неотъемлемо связанному с этим привнесением идеи о субъективной составляющей деликта. [83]
Оспаривая этот момент, Оливер У. Холмс-мл. указывает следующее: «Месть привносит чувство порицания, а также убеждение, хотя и искажённое душевным порывом, что совершено правонарушение. Месть едва ли может слишком далеко отойти от случаев намеренного причинения ущерба… (курсив мой. – Г.Е.)». [84] Всё же более обоснованной – и научно, и подсознательно – представляется противоположная позиция: «Лицо мстящее не способно произвести хладнокровного расследования в своём деле. Оно бессильно, в сущности, констатировать, виновно ли в нашем