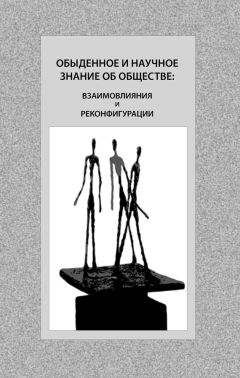Борис Владимирович Дубин
Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры
Эта книга — не монография, а сборник текстов разного времени, не всегда совпадающих по адресу и, может быть, по интонации, но единых по источнику и направленности авторского интереса. За исключением нескольких статей (самая старая из них — «Книга и дом» — относится к середине 1980-х), помещенные ниже работы написаны в 1990-е гг. Они составляют лишь часть тогда писавшегося и чаще всего были приурочены к тому или иному частному случаю — устному выступлению, тематическому выпуску журнала или сборнику, представляют собой отклик на чью-то конкретную публикацию[1].
Тем не менее данная книга объединена не только временем, когда создавались вошедшие в нее работы (а его стимулирующее давление было, особенно поначалу, очень ощутимым), но прежде всего — тематикой, совокупностью проблем, дисциплинарным подходом, которые вынесены в ее заглавие. В этом смысле она примыкает к разработкам по социологии литературы, ведшимся автором вместе со Львом Гудковым и другими коллегами в 1980-х гг.[2], уточняет и развивает их. С другой стороны, интерес к социологии советского и постсоветского общества, его группам и их культурным ресурсам, возможностям социальной динамики объединяет статьи сборника с работами автора об интеллигенции[3] и современной социальной ситуации в России (проблемы политической власти и мобилизации, межпоколенческие отношения, региональные аспекты социальной стратификации, массовые коммуникации, религиозные верования, повседневные интересы и др.), ряд которых тоже написан в соавторстве с коллегами[4]. Еще один план разработки вопросов культуры в том же русле — но уже на материале узко и непосредственно словесном — представлен в статьях, заметках и рецензиях автора, напрямую связанных с зарубежной литературой, ее переводами и публикациями, в данный сборник не вошедших. Для самого автора (хорошо, если бы читатель это учитывал или хоть как-то имел в виду) перечисленные как будто бы разные контексты тесно переплетены, и вопрос об их удельном весе, приоритете и проч. никогда не вставал.
Если говорить теперь только о текстах, что в настоящую книгу вошли, то их сквозная тема, задающая общую рамку рассмотрения, а чаще составляющая его непосредственный предмет, — это культурные и культур-антропологические аспекты тех разносторонних изменений, которые составили смысл и особенность коллективной жизни в России с конца 1980-х гг., включая социальные и индивидуальные характеристики «глубокого залегания», обнажившиеся на данном общественном разломе. Статьи группируются вокруг нескольких проблемных комплексов. Это, прежде всего, сама конституция письменной культуры, ее формы и антропология «письменного человека», «человека книги»; возможности специализированного (в первую очередь — социологического) исследования культуры в целом и литературной культуры в частности; письменность (книга, журнал) среди других (например, устных или аудиовизуальных) форм культурной коммуникации, во взаимодействии различных социальных групп и борьбе их групповых самоопределений, в конкуренции с иными способами организации и воспроизводства культуры; «массовая» культура во взаимоотношениях с «высокой», идеологическое обоснование этого понятия в истории, его бытование и актуальный смысл в современной России; «литературно образованное сословие» (интеллигенция), его последние метаморфозы, внутренние конфликты, явления групповой деградации, коллапса и распада.
Поскольку меня профессионально занимали сами эти проблемы и, соответственно, возможности, принципы, задачи их специализированного изучения (а не фиксация и передача собственных состояний, не мои впечатления и оценки, которые я к тому же всегда имел возможность высказать в другой форме, а потому не видел большой необходимости выражать в собственно социологических статьях[5]), то я счел совершенно естественным сейчас развить и дополнить то, что было намечено в некоторых материалах раньше, если эти дополнения не меняли исходных посылок и не касались основных выводов. Другие включенные в книгу материалы, ровно по этим же причинам, оставлены безо всяких внешних перемен, что в соответствующих сносках к ним и отмечено (хотя статус некоторых из вошедших в них эмпирических данных или соображений мог за десятилетие измениться — скажем, незапланированно приобрести дополнительное, к примеру, документально-историческое измерение и смысл). Перечисленные проблемы потому и сквозные, что автор к ним на протяжении 10–12 последних лет не раз возвращался, известные повторы при этом в текстах неизбежны, наиболее явные из них, что проступили при сегодняшнем синхронном прочтении, по возможности устранены.
Собственно констелляция названных выше проблем исторически сложилась, конечно же, задолго до 1990-х гг.; так или иначе профессионально осознаваться автором она, как говорилось, тоже начала раньше. Однако именно в 1990-е гг. большинство перечисленных вопросов получили в России новый поворот, приобрели особую остроту, в максимальной степени проявились, в том числе своими иногда неожиданными сторонами, и, наконец, во многом стали уже — есть такое ощущение — достоянием истории. Так, по-моему, ко второй половине 1990-х завершился первый, чисто адаптивный период сосуществования и пикировки «высокой» и «массовой» культур, точнее — групповой и корпоративной идеологии классикоцентристской культуры, будь то в ее канонических минкультовской и госкомиздатовской версиях, будь то в формах «катакомбного» противостояния официозу и мейнстриму, с одной стороны, и начатков, символов, аллегорических фигур иной, заимствованной, прежде всего потребительской, цивилизации — с другой. Насколько можно судить, окончательно потерял при этом осознанность, напряженность, остроту — по крайней мере, в прежней форме и в сколько-нибудь ответственном смысле — вопрос об интеллигенции (посвященные ей исторические штудии и коллективные сборники, в изобилии вышедшие недавно, особенно за рубежами и на периферии страны, — тому дополнительное свидетельство). Вместе с интеллигенцией, идеей ее исторической миссии и монопольной, единой культуры ушли и идеологически педалированные, а то и попросту ситуативно взвинченные проблемы «классики» (трансформировавшись в чисто издательские стратегии), вопрос о «судьбе журналов» (он тоже стал «рабочим» — например, менеджерским, финансово-техническим) и т. д.
Напротив, вероятно, важнейшая в данных концептуальных рамках проблема элиты — точнее, различных функциональных элит, их креативных возможностей и реального деятельного потенциала, оснований их авторитетности, форм «внутреннего» взаимодействия и каналов общения с «другими» — не просто не получила за описываемые годы хотя бы какого-то разрешения. Если не иметь в виду «смещенных реакций» и «ложного опознания» элиты под видом интеллигенции, проблема даже, кажется, не была поставлена, не говорю — осознана (политические трансформации последнего времени и отчасти поддерживавшие, отчасти сопровождавшие их перемены в общественном сознании и мнении, в массовых коммуникациях, формах организации культуры — выражение этого «значимого отсутствия», лишь в подобных обстоятельствах упомянутые трансформации 1999–2000 гг. и смогли стать реальностью). Перемены в суждениях, оценках, поведении образованных слоев за 1990-е гг. — понятно, не их одних, но именно о них в данном контексте и случае речь — все чаще сталкивают сегодня с фактами, касайся они национальных проблем, религиозных верований или политической культуры, которые десять лет назад мало кто счел бы возможными. И уж точно, никто не предвидел и не планировал такой деградации (вместе с тем подобная групповая или индивидуальная недальновидность, слабая реактивность, вместе с сопутствовавшими ей иллюзиями, и сама входит в перечень характерных примет интеллектуального слоя и атмосферы тех лет с ее системными дефицитами, «отсутствующими», если не вовсе «ненужными» вещами).
Среди других тем, значимых для рассматриваемого в книге проблемного круга, отмечу лишь две: обе они относятся к проблематике культурного воспроизводства и затрагивают проблему «специалистов» как альтернативы социально аморфному слою советской интеллигенции. Одна — стагнация и разложение системы образования, включая высшее[6]. Иллюзии первой половины 1990-х гг., связанные с альтернативными типами средней и высшей школы, частичным обновлением преподавательского состава, подготовкой «новых», субсидированных внегосударственными фондами учебников, заполнением наиболее ощутимых лакун и восполнением дефицита собственных идей и понятий переводами с западных языков и т. д., так или иначе развеялись. Результатов, сколько-нибудь ощутимых в социальном плане, практически не видно; существовавшая система, кажется, сумела вполне «успешно» адаптироваться к точечным микроновациям. Другая тема — резкое сужение возможностей нормальной работы в фундаментальной науке, вынужденное свертывание даже ведущихся здесь теоретических разработок (об иссыхании притока новых концепций, о неспособности и слепоте к проблемам сейчас не говорю). В особенности это относится к наиболее «тонким» специалистам (подготовка которых опять-таки наиболее трудоемкий процесс). Фактическое прекращение систематического пополнения крупнейших университетских, специализированных научных и крупнейших универсальных библиотек (включая то закрывающиеся, то работающие в четверть силы национальные) новой мировой научной литературой, профессиональной, а то и общекультурной периодикой уже поставило на грань выживания, скажем, медиевистику, востоковедение (говорю лишь о том, что знаю из первых уст). Эмиграция представляется многим более молодым и мобильным ученым, включая вчерашних выпускников, единственной возможностью разорвать смыкающийся безвыходный круг: отъезд на учебу и работу, пусть временную, связывается теперь не только с заработком, но и с возможностью позаниматься в академических библиотеках Запада. Это, понятно, в корне меняет не только систему культурного и научного воспроизводства в стране, но самым прямым образом затрагивает процессы научной и культурной инновации и разворачивает проблему слоя «профессионалов» новыми, не предвиденными еще недавно сторонами. К тому же в 1990-е гг., после некоторых кадровых пертурбаций и номенклатурных тревог, в стране, пусть даже отчасти исподволь, начала складываться и к концу десятилетия, можно сказать, в основных параметрах сложилась обновленная система организации культуры — сеть инстанций и авторитетов, механизмов и потоков распределения денежных средств, другой символической поддержки культурных инициатив и проч., начатки и отдельные элементы которой еще порознь описывались автором в работах, включенных в книгу.