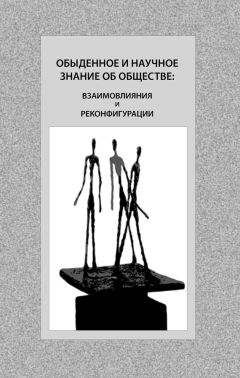351
См., напр.: Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М., 1994. С. 99–151; Другие литературы // Новое литературное обозрение. 1996. № 22; На рандеву с Марининой // Неприкосновенный запас. 1998. № 1. С. 39–44.
См.: Certeau М. de. L’invention du quotidien: 1. Arts de faire. P., 1990. P. XXXV–LIII.
Привычка — социальный механизм, по-разному реализующийся в разных социальных системах, на разном культурно-антропологическом материале; соответственно, работающие при этом модели «идеального» человека, человека «как все», «чужака» и проч. могут содержательно очень отличаться, поскольку весьма различаются функционально. О том, как — совершенно по-иному в сравнении с описанным — складывается и функционирует механизм привычки в отечественных (советских и постсоветских) условиях, см.: Дубин Б. Жизнь по привычке: быть пожилым в России 90-х годов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999. № 6. С. 18–27; Он же. О привычном и чрезвычайном // Неприкосновенный запас. 2000. № 5. С 4–10.
См. статью «Хартия книги: книга и архикнига в организации и динамике культуры» в настоящем сборнике.
См.: Huyssen A. After the great divide: Modernism, mass culture, postmodernism. Bloomington; Indianapolis, 1986; Compagnon A. Les cinq paradoxes de la modernité. P., 1990; Strychacz Th. Modernism, mass culture, and professionalism. N. Y., 1993.
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения: Философские фрагменты. М., 1997. С. 203–204.
Такие же отдельные зоны культурной массовизации (демонополизации культурных владений) как одного из моментов в процессах дифференциации общества и культуры составляют массовые политические представления (исторически именно они во многом и легли в основу т. н. «общественного мнения»), массовые религиозные верования и др. Становясь проблемой для соответствующих функций культурной и интеллектуальной элиты, они позже имеют шанс стать и предметом специализированной рефлексии, эмпирических исследований в рамках философии, социологии, истории культуры (литературы, религии и т. д.).
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996. С. 59; см. в том же издании его работу «Краткая история фотографии» (с. 66–91). Основополагающие идеи о связи между количеством участников социального взаимодействия и его структурой (характером ассоциации, включая механизмы ее воспроизводства) принадлежат Г. Зиммелю.
Беньямин оставляет здесь в стороне другие модальности и модели массового поведения и восприятия — мобилизационно-экстатическую, мобилизационно-дисциплинарную и проч. В этом смысле образцом для него выступает в данном случае одиночное фланерство жителя метрополиса, рассматривание уличных витрин и рекламных изображений, а не массовые шествия и иные процессии (свидетелем которых ему, вместе со всей Европой, вскоре придется стать) либо радения спортивных, музыкальных и других фанатов уже нашего времени. Беньямина, кажется, больше интересует поздний, переродившийся потомок романтического мечтателя — одинокий человек толпы, чем собственно толпа, ведущая себя тем не менее как один человек. Точней, его занимает в индивиде пока еще непривычное соединение массовости самопонимания и установки на других с единичным («индивидуальным») и дистанцированным («зрительским») уединением — скорее зритель у телевизора, чем на трибуне стадиона. Как Августина поразил когда-то невиданный антропологический образец, картина «человека читающего» (и делающего это «в уме, не произнося ни слова и не шевеля губами»), так Беньямина завораживал «новый одиночка» — «человек смотрящий» (и не занятый больше ничем) как особая роль, стандарт, человеческий тип.
Беньямин В. Указ. соч. С. 37, 59–61. Понятно, что при этом в корне изменилась и роль художника, его самопонимание: Бодлер «впервые выдвинул притязания на обладание экспозиционной стоимостью <…> стал своим собственным импресарио», — отмечает Беньямин (Иностранная литература. 1997. № 12. С. 172).
См. также: На рандеву с Марининой // Неприкосновенный запас. 1998. № 1. С. 39–44.
Здесь не только героиня говорит: «Я неровно к тебе дышала» или «Спешка хороша лишь при ловле блох», но и язык автора пестрит выражениями вроде «терпения было выше крыши» и т. п. Характерен в этом смысле мотив «правописания» в романе «Иллюзия греха», где одна из героинь обладает безупречной «врожденной грамотностью».
Эклектика и синтетизм подобного литературного письма и массового искусства в целом, которое ничего не исключает (своего рода популярный вариант стилистического барокко), опять-таки, противостоит аскетическому минимализму авангардного поиска, доведению в нем любой избранной манеры до «невозможного» предела и чистоты (можно сказать, своеобразному классицизму).
Понятно, что за этим, эмпирически представленным выше и, казалось бы, чисто количественным сокращением контингента посетителей театров и музеев (вдвое), тиражей книг (вчетверо) и журналов (в восемь раз), а тем более зрителей в кинотеатрах (в пятьдесят раз!) фактически кроется функциональное, содержательное перерождение соответствующих коммуникативных каналов. Правильней было бы сказать, что это уже совершенно другие музеи, книги, кинотеатры и т. д. Но поскольку собственно усложнения структур взаимодействия, их функционального обновления при этом не состоялось, то «перерождение» элементов системы в данном контексте понимается терминологически — как одна из форм распада. В процессе подобного распада, при понижении целого, общем «проседании» и «осыпании» структур, одни прежние формы с их функциями, говоря метафорически, «наползли» на некоторые другие, «вдавились» в них или «сплющились» с ними (иными словами, «атрофия» одних органов или участков социокультурной «ткани» общества сопровождалась «перерождением» других, к чему в институциональном плане, собственно, в большой мере и свелся процесс «перемен»). Например, к концу 1990-х гг. журналы, продолжающие называться «толстыми», явочным порядком, вне зависимости от чьего бы то ни было отдельного желания оказались по тиражам и даже по самопониманию, по фактической практике их редакций неким подобием «little review», при том, что ни реального умножения, ни реальной дифференциации социальных групп и журнальных каналов коммуникации между ними не произошло, а Интернет лишь частично компенсировал подобные структурные деформации и дефициты (данные о процессе интернетизации см.: Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскунский А. Е. Социальная динамика сообщества пользователей компьютерных сетей // http://www.relarn.ru:8082/human/dynamics.txt). Это значит, что контингент их подписчиков и читателей не просто численно сократился, но и функционально трансформировался: даже если это, что называется, те же самые люди, они — настолько уменьшившись в количестве — понимают и ведут себя иначе, нежели три, пять, десять, пятнадцать лет назад.