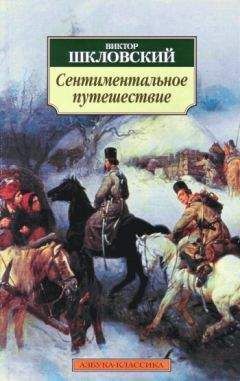Кажущиеся совпадения в искусстве очень часто включают в себя внутренние отрицания для нового построения.
Несомненно, что Софокл учился у Эсхила, как несомненно и то, что Пушкин учился у Батюшкова, но разность той действительности, которую выражают эти ученики сравнительно с учителями, сказывается во внутренней разности их будто бы совпадающих художественных средств — того, что теперь живет под псевдонимом «мастерство».
Вероятно, Софокл относился почтительно к Эсхилу, хотя спор его с Эсхилом явен.
Как относился к Софоклу Еврипид, мы не знаем, но зато мы знаем, как толковал это отношение Аристофан; он раскрывал его как противодействие, как спор.
Мы можем считать, что в искусстве мира — прямой преемственности нет.
Сейчас мы еще не все видим со всей ясностью разницу между социалистическим реализмом и критическим.
Художественные решения у Шолохова и Л. Толстого часто близки друг другу; в то же время мы чувствуем разность намерений авторов: разницу метода, основанную на разнице мироотношений.
Новые литературные решения создаются прежде, чем они находят для себя определение и название.
Новые литературные сцепления часто ищут в прошлом себе предков, переосмысливая то, что до них существовало.
Старое не исчезает, но начинает восприниматься иною, оно существует, но измененным и переосмысленным.
Литературное явление, выражая себя, приходит к самоотрицанию, и следующее литературное направление часто опирается не только на своих непосредственных предшественников, но и на те направления, которые, казалось, оставлены, но для новых вопросов воскресли в ином выражении, понадобились для нового отражения действительности.
Так, для эпохи Некрасова выросло значение Тютчева; так, для начала эпохи социалистического реализма воскресли проблемы романтизма.
По-новому встала мечта, люди стали писать и о том, что должно быть.
М. Горький в 1928 году говорил: «…слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы…»[318]
Социалистический реализм не сотворен, а рожден, найден уже существующим, он оконтурен на натуре.
Спор Софокла с Эсхилом, как и противопоставление Некрасова Пушкину, не ошибка, а ощущение нового качества. Это не значит, что Софокл вытеснил Эсхила или Некрасов Пушкина. Они измененными войдут в сознание человечества.
Отношения между людьми в старых романах были связаны как бы классической механикой; действие передавалось от одного человека к другому через прямое столкновение; оно определялось или любовью к себе, или любовью к близким.
В новом романе действующие силы создаются социальным полем; и те, кто были хором в античной трагедии, теперь не только говорят — они действуют, они носители энергии, они выделяют из себя героя: этому герою они передают слова, но не решения; не он и не его единичная судьба — причина действия.
Все завершается не сразу, хотя и не постепенно: завершается превращением, изменяющим качество.
Смена школ, их спор и взаимоотрицание является не столько спором творцов, сколько осознанием накопившихся изменений.
Социалистический реализм — реализм нового качества, вобравший в себя элементы прошлого для того, чтобы увидеть и выразить новую эпоху, которая без него не могла полностью осознать себя в искусстве.
Старый реализм перестал удовлетворять художников уже с начала нашего века. Настоящее содержит в себе будущее, еще не осознав его.
Для того чтобы показать новые связи жизни, надо было изменять все, изменить цели действия.
Изменить представление о возможностях человека.
Петербург-Петроград становится Ленинградом
Сколько исхожено, сколько истоптано.
Говорят в народе, что с годами узнаешь, почем фунт лиха.
Лихо мы избываем, и зато знаем, почем фунт хлеба, почем строка, написанная так, чтобы она осталась, почем кусок угля, почем боль обожженных в работе рук и что такое искусство, для чего его выдумал человек.
Помню Александра Блока — молодого. Кажется, лето было: лицо его было темнее глаз. Оно загорело тогда под безоблачным небом города без дыма из заводских труб.
Ходили по набережной Невы.
Нева не спеша катила собранные из прошлогодних снегов воды Ладоги, на дне которой, говорят, лежит доисторический лед.
За рекой, над низиной маленького острова, — серая гранитная стена. У стены лежит, истаивая, ладожский лед. Ладожский лед, желтея и шурша, идет по всей Неве, и мост как будто едет к нему навстречу, навстречу льду плывет высокий, как лирическое стихотворение, шпиль Петропавловской крепости.
Плывет в будущее Петербург, становясь Ленинградом.
Долга питерская ночь без теней; как будто солнце, не зная, с какой стороны ему встать, все освещает кругом.
Блок говорил о том, что надо переучиваться писать, что трудно писать, когда писать легко.
Ссылаться на разговор, который вел Блок на пустой набережной, трудно.
Но он об этом писал еще до революции: «На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял»[319].
Нашедший себя поэт смотрел кругом. Он хотел увидеть не себя, а то, каким напряжением горит время, хотел услышать новую музыку будущего.
На набережной мы не спорили.
Но теорий формалистов Блок не любил. Случайно попав на одно из заседаний ОПОЯЗА в Доме искусств, он сказал: — Я в первый раз слышу, что про поэзию говорят правду, но поэту слышать то, что вы говорите, вредно.
Мы исключали борьбу за новое видение из анализа сцепления.
Со мной Блок говорил очень заинтересованно, но холодно.
За ошибками, за началами и черновиками лежит новая жизнь, еще никем не увиденная, лежит будущее, не наше и не России только, а всего мира с дальними нам странами.
Он писал о межзвездных полетах тогда, когда автомобиль был редкостью:
Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.
Тогда выходила при отделе изобразительных искусств Наркомпроса газета «Искусство коммуны». Говорилось в газете о новом искусстве. Многое сказано было неправильно. Ведь еще недавно печатались футуристами декларации, в которых предлагалось «сбросить Пушкина с парохода современности». Прошло от той декларации только пятьдесят лет. Слово «Пушкин» — живое слово, а слово «пароход» — очень старое, допотопное и даже доавтомобильное: теперь ходят теплоходы и дизельэлектроходы, а пароходы ржавеют в заводях на тихих реках. Но тенденции, что мир надо строить заново, что как дома надо строить по-новому, с иными окнами, иными дверями, иными стенами, так и слова надо соединять по-новому, для того чтобы со слипшимися старыми словами не проникало в душу старое, неотмытое понятие, — это для Маяковского была та пища и воздух, которыми он делился с людьми.
Когда я увидел в первый раз Маяковского, блуза на нем была еще не желтая, а черная.
Длинные волосы его зачесаны назад; высокие брови чернели над длинными глазами; губы тонки и подвижны. Одет в неподпоясанную, истертую бархатную блузу — такие носили молодые рабочие-типографщики, их звали за эту одежду «итальянцами».
Он стоял, ожидая решительных боев.
Когда затрубили трубы революции, Маяковский первый из поэтов готов был не улучшать, а начисто переделывать жизнь.
Он видел ее со своего высокого, революционного края. С того же края видел он старое искусство в ясные дни.
Блок писал в дневнике 10 декабря 1913 года: «А что, если так: Пушкина научили любить опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а… футуристы»[320].
В разговорах Маяковский был сдержан. При мне ни разу не хохотал. Дома шутил редко, спокойно и грустно, но никогда не жаловался.
В стихах он всегда анализировал и спорил.
Еще Г. Винокур в книге «Маяковский — новатор языка» писал: «С этой точки зрения интересно, напр., сопоставить объективно-утвердительный тон пушкинского „Памятника“ и неизбежную форму обращения к слушателю, хотя бы очень далекому, которой начинает свой „Памятник“ Маяковский:
Уважаемые товарищи потомки!..[321]
Речь идет о поэме «Во весь голос».
Маяковский — оратор, ритор революции в высоком смысле этого слова. Риторика у него — анализ, способ обновления видения сущности вещи.
Трагедии Шекспира риторичны.
Маяковский, сталкивая образы, обновляя эпитеты, вводил человека в стройку нового мира, и так как мир только что создавался, то и тон поэзии был тоном спора и противопоставления.