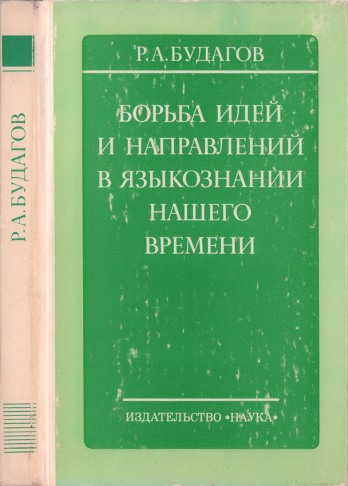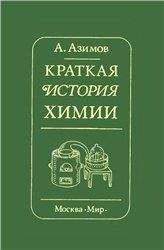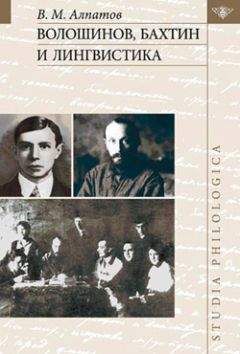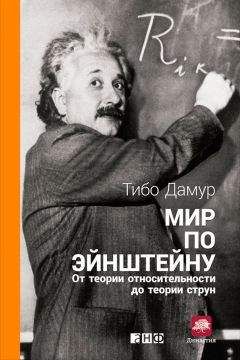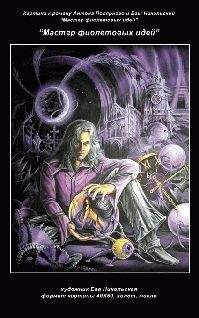чем они говорят, их желание оказать с помощью слов воздействие на слушающих. Так, например, слова типа upnos ʽсонʼ у Гомера выполняли не только номинативную функцию, но и передавали убеждение говорящих в том, что будто бы существует особая сила, вызывающая сон. Само слово upnos ʽсонʼ получало уже не словообразовательную (грамматическую) мотивировку, а своеобразную идеологическую мотивировку, обусловленную уровнем научных знаний эпохи Гомера. Если учесть, что подобных слов тогда было немало, то разграничение, предложенное Мейе, представляет бесспорный интерес [101].
Дело даже не в том, прав ли А. Мейе в каждом отдельном случае, и не в том, насколько удачен термин le mot-force ʽслово-силаʼ в отличие от le mot-signe ʽслово-знакʼ. Меня интересует другое: стремление человека с давних времен употреблять слова не только как условные номинации (в известной степени в процессе коммуникации это неизбежно), но и как номинации, активное отношение к которым человек не может и не хочет скрывать. В этом уже тогда обнаруживалось стремление дать своеобразную, ту или иную мотивировку словам, в особенности словам, которые в наше время станут называться «словами-ключами» определенной эпохи.
Хотя знак односторонен, а слово двусторонне, как двустороння и грамматическая категория, все же и в пределах двусторонних категорий, которыми оперирует любой язык, имеются единицы, семантически более открытые, и единицы, семантически менее открытые. В этом плане всем широко известно еще со школьных времен противопоставление слов самостоятельных и служебных. Они различаются по ряду признаков, в том числе и по признаку соотнесенности значения и знака. У слов самостоятельных (в школьной традиции «знаменательных») функция значения подчиняет себе функцию знаковости, у слов служебных, наоборот, функция знаковости как бы отодвигает на второй план функцию значения.
В свое время один из известных психологов последовательно различал «язык-внушение» (le langage suggestion) и «язык-знак» (le langage signe) в зависимости от того, в какой сфере функционирует язык и насколько сознательно люди пользуются своим родным языком. У больших писателей язык обычно выступает как «язык-внушение», у просто говорящих – как «язык-знак». В свою очередь у французских романтиков первой половины прошлого столетия язык был ближе к идеалу «языка-внушения», чем у французских классиков XVII столетия, манера выражать мысли и чувства у которых «характеризовалась бесстрастностью».
Градации проводятся и в пределах общелитературного языка: когда мы сообщаем о хорошей погоде, наш язык ближе к типу «языка-знака», когда же мы рассказываем о взволновавших нас событиях, наш язык вольно или невольно приближается к типу «языка-внушения» [102]. Таким образом, хотя все национальные языки оперируют и в лексике, и в грамматике двусторонними единицами, в самой этой двусторонности может выделяться либо категория значения, либо категория знаковости. Больше того. В процессе своего функционирования язык в целом в состоянии обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-внушения») или не обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-знака»).
Нередко приходится слышать, что в эпоху научно-технической революции сам язык превращается в чисто техническое средство, в «язык-знак». Он только называет, только утверждает или отрицает, избегает всяких «сантиментов», стремится быть точным и лаконичным. «Язык-знак» вытесняет «язык-внушение». Таково, по мнению многих, «требование эпохи». При всей кажущейся неотразимости подобного заключения, оно по существу своему поверхностно, ошибочно. Само требование точности языка приводит к тому, что говорящие и пишущие люди невольно начинают обращать больше внимания на то, кáк они говорят и кáк они пишут, чем они это делали раньше, т.е. обращают внимание на сам язык. Все это вольно или невольно вовлекает язык в сферу «языка-внушения».
Сталкиваются две противоположные тенденции: одна из них, упрощая язык, движет его по направлению «к языку-знаку», другая, – обращая внимание на способ выражения мыслей и чувств людей в современном обществе, тем самым влечет язык по направлению к «языку-внушению». К тому же резко увеличивается удельный вес научной терминологии в системе современных литературных языков. Термины же формируются сознательно. Столь же сознательно обычно осмысляется и внутренняя форма каждого термина. Из менее заметного средства общения язык сам по себе становится средством более заметным. Он требует к себе большего внимания, чем раньше, до эпохи научно-технической революции. К тому же и художественная литература с ее «языком-внушением» не только не сдает своих позиций в период НТР, но и расширяет их, если сама НТР совершается в социально-благоприятных для народа условиях. Это последнее обстоятельство важно во всех отношениях, в том числе и для судьбы национальных языков.
Итак, если тенденция к стандартизации влечет язык к типу «языка-знака», то противоположная тенденция, обусловленная многообразием материальных и духовных потребностей людей нашего времени, обогащает национальные языки, делает более разнообразными их стилистические регистры и влечет языки к типу «языков-внушений». Лингвист не имеет права упускать из виду ни первую, ни вторую из этих тенденций.
Когда в 1916 г. в «Курсе» Соссюра впервые так настойчиво подчеркивалась произвольность языкового знака, то многим казалось, что теперь наступила эпоха знакового истолкования языка. Если в русском языке дерево называется «деревом», а конь – «конем», то выбор того или иного названия в синхронной системе языка произволен, ничем не обусловлен. Создавалось впечатление, будто концепция знаковой природы языка сразу избавляет лингвистов от решения многих сложных проблем и дает возможность построить простую и однозначную систему знаковых отношений.
Такое впечатление оказалось, однако, совершенно иллюзорным. Любопытно, что уже Ш. Балли, ученик Соссюра и один из двух издателей его «Курса», резко возражал против принципа произвольности (немотивированности) языкового знака. В своей остро теоретической книге Ш. Балли всячески стремился сузить сферу функционирования в языке произвольных знаков и всеми возможными способами расширить сферу функционирования знаков мотивированных, непроизвольных [103].
Балли рассуждал при этом так: с помощью языка люди выражают не только свои мысли, но и свои чувства. Вместе с ними люди обычно передают и свое отношение к обсуждаемым вопросам. Так возникает мотивировка слов, словосочетаний и целых предложений. Так формируются переносные значения, полисемия, полифункциональность грамматических категорий и т.д. Человек не остается в стороне от своего родного языка. Поэтому и языковые единицы (лексические, грамматические и, отчасти, фонологические), как и система языка в целом, не могут оставаться немотивированными для людей, для которых данный язык является родным.
Но Балли лишь начал критиковать принцип произвольности языкового знака. Позднее эта критика была расширена и глубже обоснована. Не ставя перед собой задачи – дать историю критических суждений об этом принципе Соссюра – укажу лишь на некоторые моменты, существенные для интересующей меня темы.
Языковой знак не может быть произволен уже потому, что, как мы знаем, языковой знак может существовать лишь в ряду «знак –