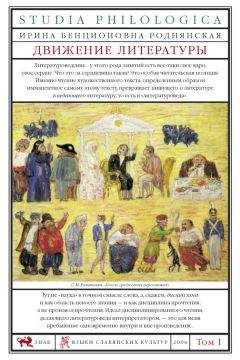Ознакомительная версия.
308
Особый разговор – о тех (на мой взгляд, очень немногих) страницах «Псалма», где все же видна твердая литературная рука автора «Дома с башенкой» и «Искупления» и где присутствует некая из глубины идущая воодушевленность. Два таких места, овеянных воздухом подлинности, находятся в знаменательном соответствии одно другому: брачное соединение Дана-Антихриста с приемной дочерью – и финальный гимн «зимнему черному лесу», пылающему «своей белизной». Сакральной торжественностью окружено предустановленное свыше зачатие младенца; здесь достаточно искусно сплетены три провиденциальных библейских мотива: дочерей Лотовых, Фамари и Руфи-моавитянки, покинувшей свой народ ради мужниного (и, кстати, нет здесь никаких черт «трагической сложности» XX века, которые очередной изобретательный критик углядел в «инцестуальной ауре» этого эпизода). А искренний восторг перед русским зимним пейзажем неожиданно выдает согласие автора любить Россию как именно нерождающее, скованное стужей стерильное пространство, лишенное каких бы то ни было «языческих» произрастаний (предлагаю сравнить с недружелюбием Горенштейна к летнему лесу в «белорусских» сценах романа). Тут брезжит так и не пробившийся сквозь плотные идеологические завесы, не внятный, вероятно, до конца самому писателю, но вдруг придавший его перу подъемную силу, из сердца рожденный сюжет: о промыслительном возвращении мессианского наследства от славян обратно к евреям и о начале нового мессианского рода – из колена Данова. Овладей Горенштейн этим темным наитием как художник, может быть, и получилось бы нечто «гениально-порочное». Но, как я старалась показать, им руководили иные импульсы. (В скобках замечу, что, разделяя христианскую веру в новый народ Божий, где несть ни еллина, ни иудея, сама я в споре «двух мессианизмов» о правах на будущее здесь не участвую и, применительно к данному случаю, рассматриваю проблему с мифопоэтической, литературной стороны.)
Берг Михаил. Гамбургский счет // Новое литературное обозрение. № 25 (1997); Елисеев Никита. Гамбургский счет и партийная литература // Новый мир. 1998. № 1.
А бесчисленные скобочки-примечаньица грубо заимствованы автором «Человека-языка» у первооткрывателя Маканина. Впрочем, там, где, согласно постмодернистскому декрету, все принадлежит всем, вопрос о заимствованиях решается с трудом. Правда ли, что Толстая воспользовалась Успенским, как меня уверял один мой коллега? Ну, если витязи и волхвы Успенского вынесли из «додревнего» мира имена Трациклина и Дыр-Танана (д’Артаньяна), а «голубчики» Толстой слыхивали от «Прежних» о ФЕЛОСОФИИ и ОНЕВЕРСТЕЦКОМ АБРАЗАВАНИИ, – то за независимость находки ручается ее примитивность. Но, наткнувшись в обоих сочинениях на совсем уж одинаково обыгранный в простецком духе категорический императив Канта, я поневоле призадумалась…
Это уже иронизирует А. Королев.
Шум бывает так оглушителен, что легко сбиться. Такой внимательный критик, как Мария Ремизова, спутала Аида-Плутона, чьим воплощением предстает в триллере Королева ясновидец Август Эхо, с Зевсом; Борис же Парамонов принял вполне человекообразных мутантов из «Кыси»… за котов – а все из-за мышиного меню.
С «бедром» у прозаика-интеллектуала вышла промашка. Правда, в «Змее в зеркале» та же реалия означена как «ребро». Впрочем, может быть, дружбинские редакторы просто оказались в данном случае внимательней знаменских?
Особенно теперь, когда с принятием «госсимволики» открывается творческая возможность писать о ее носительнице как о химере, то есть (вспомним эллинский миф), как о чудище составном.
Упомянутые критические статьи (в порядке перечисления имен) читатель найдет в следующих газетах и журналах: Литературная учеба. 1981. № 1; Аврора. 1980. № 3; Подъем. 1981. № 3; Литературное обозрение. 1983. № 10; Литературная газета. 1983. 6 июня; Дружба народов. 1984. № 1; Урал. 1985. № 12.
Такой «неопримитив», такая вторичная переработка и возгонка народным сознанием шлаков культуры хорошо известна в истории современного искусства. Кто читал записанные Б. Шергиным северные сказы о Пушкине, помнит, как вплелись туда газетные и радиовещательные шаблоны, чья тривиальность и поверхностность, однако, совершенно смыта волной живой поэзии, сердечного болезнования, даже озорства народных интепретаторов.
Кстати, вот превосходный психологический портрет одного из участников «теневой экономики» недавнего прошлого. Известный публицист Лев Тимофеев в целой серии статей не устает восхвалять этот неотъемлемый от «социалистического хозяйства» экономический институт как здоровую будто бы реакцию простых людей на противоестественный уклад, как положительную форму стихийного ему сопротивления. Стоило бы, однако, прислушаться к свидетельству художника: когда закон, пускай извращенный, делает добычливого человека вечно травимым вором, он начинает гибнуть нравственно, сжигая себя алкоголем и разгулом; ничего «здорового» в тени, отбрасываемой советскими экономическими пирамидами, вырасти не могло, реакция так же болезненна, как и ее возбудитель.
Вероломный приятель всякое лыко ставит обличаемому в строку; даже то, что в «Рубашке» слово виски – не среднего, а мужского рода. Но это щелчок зубами вхолостую: в приличных домах и приличных текстах виски – мужского.
Это сумеречное продуцирование грезящей фантазии – непреднамеренно, конечно, – передано Гришковцом в полном соответствии с тем, как трактуется оно у французского феноменолога Гастона Башляра: «греза» – состояние между явью и сном, более активное и осознанно интенциональное, нежели сон, но менее подчиненное диктату принципа реальности, нежели явь; творчески особо продуктивное, воплощающее созидательную силу души. Как пишет один из последователей Г. Башляра, «греза» – это «направленный пучок желаний, ищущий удовлетворения в материализованных образах фантастического мира <…> Греза в ее чистой форме никогда не бывает демонической или апокалипсической. Грезящее «я» всегда начеку и успешно управляет своими воображаемыми действиями <…> В грезе человек «космически счастлив»» (цит. по кн.: Самосознание культуры и искусства XX века. М.; СПб., 2000. С. 561–562). Г. Башляр своим философским авторитетом, так сказать, ручается за психологическую подлинность и даже неизбежность этих, неловко, как может показаться, внедренных эпизодов.
Ознакомительная версия.