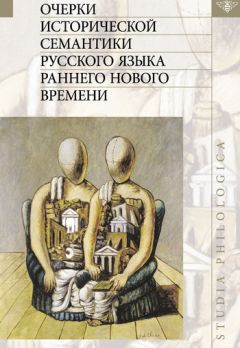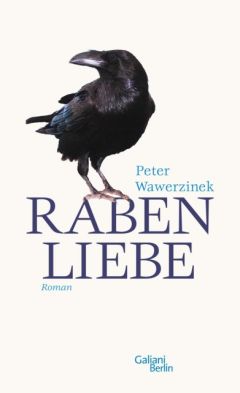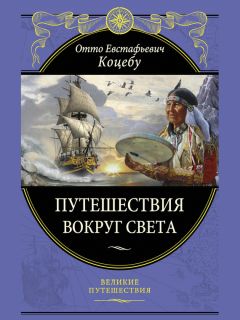Ознакомительная версия.
Петр наложил на этот документ резолюцию «знатное дворянство по годности считать», то есть место человека в государственной иерархии определяется не происхождением и не богатством, а годностью к службе. Служба в полках для шляхетства была обязательной и бессрочной. Контрольные функции над дворянами, наблюдение за тем, чтобы они не уклонялись от службы, принадлежали Герольдии, в число функций которой входило среди прочего составление дворянских списков. Если во второй половине XVIII века включение в дворянский список (дворянскую книгу) означало серьезные привилегии, то в начале века – только обязанности. Не случайно в Петровское время некоторые дворяне, чтобы избежать службы, предпочитали записываться однодворцами [Раскин 1996: 673; ПСЗРИ I: 26, № 19856, 615].
В число служебных обязанностей дворян теперь вошла и учеба [Чечулин 1889: 49]. Все дворяне были обязаны учить своих детей сначала в гарнизонных училищах, а затем в корпусах. Учить детей дома дозволялось только тем, чье имущественное положение позволяло нанимать учителей. Но и для учившихся дома детей были обязательны явки на смотры к представителям администрации в 7, 12, 16 и 20 лет. Разрешение продолжать домашнее образование получали лишь те, кто успешно проходил это испытание. За уклонение от учения грозили каторжные работы или ссылка [Романович-Славатинский 1870: 125–127].
Смотры дворянских детей проводились иногда в Герольдии, иногда в Сенате, а иногда и лично императором. В 1704 году дело ограничилось присылкой в Герольдию списков дворян [Романович-Славатинский 1870: 118]. О царском смотре 1712 года сохранились воспоминания Василия Васильевича Головина:
Мая в последних числах был нам всем смотр, а смотрел сам его царское величество, и изволил определить нас по разбору на трое: первые, которые летами по старее, в службу в солдаты, а середних – за море в Голландию для морской навигацкой науки, в которых в числах за море и я, грешник в первое несчастие определен, а самых малолетних в г. Ревель в науку [Пекарский I: 142].
При этом заграничная учеба проходила под наблюдением специального надсмотрщика, присланного из России для понуждения навигацкой науки [Там же].
В некоторых случаях место проведения смотра определялось материальным положением недоросля. В 1713 году те недоросли, у родителей которых было больше 130 крестьянских дворов, посылались на смотр в Санкт-Петербург, а у кого меньше – в Москву, в Канцелярию Сената [80]. Таким образом, даже место периодического смотра выбирали не родители молодого дворянина, руководствуясь, например, близостью к месту жительства, а государство.
Мы видим, что никакой свободы выбора способа служения государству у дворян в начале XVIII века не было. Род занятий дворянина определялся государственными потребностями, материальным положением его семьи и даже местом службы братьев: герольдмейстер следил за тем, чтобы по гражданской части служило не более 1/3 представителей каждого дворянского рода [Романович-Славатинский 1870: 123–124] [81].
Имеется масса свидетельств о том, что дворяне бежали от смотров точно так же, как крестьяне бежали от барщины. Колоритные зарисовки об уклонении дворян от воинской службы оставил И. Посошков:
В Устрицком стану есть дворянин Федор Мокеев сын Пустошкин, уже состарелся, а на службе ни на какой и одною ногою не бывал, и какие посылки жестокие по него ни бывали, никто взять ево не мог, овых дарами угобзит, а кого дарами угобзить не может, то притворит себе тяжкую болезнь или возложит на ся юродство и возгри по бороде попустит. И за таким ево пронырством инии и з дороги отпущали, а егда из глаз у посылщиков выедет, то и юродство свое отложит и, домой приехав, яко лев рыкает. И аще и никаковые службы великому государю кроме огурства не показал, а соседи все ево боятца [Посошков 1951: 94];
Иван Васильев сын Золотарев, дома соседям своим страшен яко лев, а на службе хуже козы. В Крымской поход не мог он отбыть, чтоб нейтить на службу, то он послал въместо себя убогово дворянина {…}
и дал ему лошадь да человека своего, то он ево имянем и был на службе [Там же: 94–95].
Эта историческая справка необходима нам для того, чтобы показать, что в начале XVIII века государственная (военная) служба являлась скорее повинностью, чем привилегией. Дворянин этого времени едва ли написал бы слова, которые позже, в 70-е годы, напишет князь А. Куракин:
Учинение себя годным к службе моего отечества есть мой большой предмет, достижение до основательности, всеми вообще признанной, есть моя главная прелесть (1773) [Архив Куракина VII: 259].
Гражданская службаНаиболее раннее из известных нам употреблений выражения гражданская служба [82] содержится в Указе от 14 апреля 1714 года «О числе лет, которые младшие братья дворянского звания должны провести на службе, а торгового класса люди – в промыслах, дабы получить право приобретать покупкою недвижимые имущества»:
Ежели кадет пойдет в службу воинскую, и получит себе службою деньги, на которыя себе захочет купить деревни, дворы или лавки, то ему вольно купить, однакож по седьми лет службы его; буде же в гражданской службе будучи, то по десяти лет службы его; буде же в купечестве, мастерстве будучи, то по пятнадцати летех [ПСЗРИ I: 5, № 2796, 97].
Этот пример интересен не только потому, что он, возможно, является первой фиксацией выражения гражданская служба, но и потому, что четко определяет место гражданской службы в государственной системе ценностей – гражданская служба менее престижна, чем военная, но существенно более престижна, чем другие занятия горожан – купцов и ремесленников. В более ранних петровских указах вместо выражения гражданская служба употребляются слова дела и посылки [Романович-Славатинский 1870: 133].
«Табель о рангах» поставила гражданские чины в один ряд с военными, однако гражданская служба явно считалась службой второго сорта, о чем свидетельствует само название этого документа: Табель о рангах всех чинов, Воинских, Статских и Придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однакож Воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был [ПСЗРИ I: 6, № 3890, 486]. Уравняв военные и гражданские чины, Табель установила между ними жесткие соответствия. Теперь слово служба стало обозначать все виды деятельности, предусмотренные этим документом.
На канцелярскую работу дворян направляли так же насильственно, как и на военную службу, выбирая тех, кто был наиболее к ней приспособлен. Дворяне работали на жаловании копиистов, но должны были «оказывать свою природу» через учтивое обращение с канцелярскими служителями [Романович-Славатинский 1870: 139]. При этом следует отметить, что всю первую половину XVIII века среди канцелярских служащих преобладали люди недворянского происхождения, которым «Табель о рангах» предоставляла возможность дослужиться до чина, дающего дворянское звание.
Дворяне, служащие в канцелярии, в отличие от своих коллег иного социального происхождения, не имели права пьянствовать, играть в карты и другие азартные игры [83]. Кроме того, дворяне Сенатской канцелярии должны были иметь приличную одежду и белье, а также пудрить волосы каждый день, «чтоб им не безчестно было являться пред честными людьми, а особенно в праздники вместе с кадетами ходить по двору». При этом на штатской службе задерживались немногие дворяне: одних из-за профнепригодности отправляли в армию солдатами, другим удавалось отпроситься в действующую армию офицерами.
Гражданскую службу дворяне считали куда менее престижной, чем военную. Популярностью пользовались лишь те должности, которые давали некоторую свободу (губернатор, городничий и т. д.). Только при Павле I, когда армейская дисциплина стала более строгой, а воинская служба – более обременительной, популярность гражданской службы несколько возросла [Романович-Славатинский 1870: 140–141].
Для того чтобы придать штатской службе большую популярность, для служащих по гражданскому ведомству вводились аксессуары, свойственные военным. И это приносило свои плоды. По свидетельству барона Вигеля, дворяне без особого уважения относились к инженерной службе до тех пор, пока принц Ольденбургский не испросил для них военные чины и мундиры [Там же: 142]. Хотя дворянство и смирилось с гражданской службой, представление о том, что служба по гражданскому ведомству является службой второго сорта, сохранялось еще очень долго. Характерный диалог приводит И. Аксаков в «Семейной хронике»:
– Хочешь, Сережа, в военную службу? – Не хочу. – Как тебе не стыдно: ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером [Романович-Славатинский 1870: 522].
Ознакомительная версия.