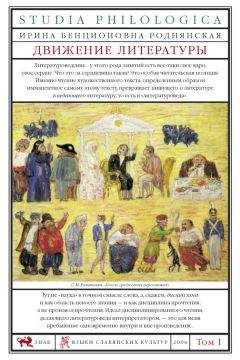Ознакомительная версия.
Эти опасные шаблоны (они же – идеи-«трихины» из символического сновидения Раскольникова, несущие с собой безумие и раздор) образуют в художественной реальности Достоевского как бы идейный антимир, противоположный «семенам из миров иных», приобщающим к высшему смыслу существования. То, что возникает в фантазии героя «Преступления и наказания», то, что движет катастрофический сюжет «Бесов», самым неожиданным образом дает о себе знать в развязке «Братьев Карамазовых», в связи с «судебной ошибкой».
Принято считать, что Достоевский неприязненно относился к пореформенному суду и изобразил его в отрицательных, едва ли не сатирических тонах, – то ли отвергая либеральное судопроизводство в силу своей позиции реакционера, то ли изобличая лживость судебной бюрократии как критический реалист. Однако из текста романа очевидно, что присяжные, в чьих руках – незадавшаяся Митина судьба, обрисованы с большим респектом, даже сочувствием: это в большинстве своем простые люди, со здравым смыслом, чувством правды и семейными устоями; им бы, по Достоевскому, как раз судить да рядить. И вовсе не они – источник роковой «судебной ошибки». С другой стороны, юридически полномочные лица, ведущие Митин процесс, – не равнодушные чиновники-службисты, а скорее идейно воодушевленные представители новой интеллигенции. Они-то со своими отвлеченными задачами, посторонними предмету судебного разбирательства – конкретной человеческой участи, и встают между Митей и народной совестью, дезориентируя присяжных заседателей. И чахоточный прокурор, жаждущий оставить свое завещание обществу, и адвокат – «прелюбодей мысли», привыкший обольщать аудиторию, используют трибуну суда для идеологического завоевания публики. Прокурор рисует мрачную, почти гротескную картину российской карамазовщины, где так кстати амплуа неистового отцеубийцы, под которое удобнее всего подвести Митю. Адвокат блестяще воссоздает подлинные обстоятельства преступления и, кажется, уже склоняет присяжных к мнению о фактической невиновности подсудимого, но тут-то ради торжества импонирующей ему ложной идеи, пренебрегая долгом защитника, выдвигает вместо близкой к истине версии – новую: Митя – отцеубийца, вынужденный к преступлению обстоятельствами и воспитанием, а потому заслуживающий всяческого снисхождения. По сути, происходит подмена юридического состязания идеологическим турниром, адвокату важно, чтоб его идея переиграла идею прокурора, и наоборот. В результате «мужички»-присяжные, подавленные развернутой перед ними картиной безобразия и возмущенные модными веяниями, отменяющими абсолютный смысл заповеди о почитании родителей, «порешили» Митю, который – представляя собой «Россию непосредственную» – был бы ими лучше понят, если б не стал фишкой в игре идей.
Примечательно, что, несмотря на свою неизменную вовлеченность в злободневную полемику, Достоевский не дает в романе повода отождествить убеждения прокурора и адвоката ни с одной из реально существовавших тогда идейных позиций. Прокурор – западник, обличающий социальные язвы России и ее дикость («У тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»); в нем проступают даже отдельные черты сходства с Белинским – автором письма к Гоголю (страстная преданность своему кредо, значительность предсмертного выступления – «лебединой песни», использование гоголевских образов в целях общественной критики), но вместе с тем в его лице перед нами консерватор, ведущий свою атаку во имя традиционных основ общежития. Адвокат, при наличии еще более определенных жизненных прототипов, – тоже в некотором роде фантастическая фигура: он сочетает новейшие позитивистские идеи «среды» и эмансипации нравов с профанированными ссылками на Евангелие и с восхвалением, должно быть не совсем искренним, «русской правды» и русского будущего. Такая необычная конфигурация идей заставляет предположить, что в решающем эпизоде «судебной ошибки» Достоевский имел в виду не вредоносность тех или иных воззрений, с которыми ему доводилось вести публицистическую войну, а губительность идеологической предвзятости как таковой.
Здесь вопрос уже ставится не только о судьбе Дмитрия Карамазова, а о судьбе России. Образ знаменитой гоголевской тройки, «пожирающей пространство», – образ России, устремленной навстречу будущему, – привлекается, как не раз отмечалось в литературе о «Братьях Карамазовых», и обоими состязающимися на суде юристами, и (в главе «Сам еду») автором-повествователем. Но в изображении двух названных персонажей «тройка» эта движется так, как диктует каждому его схема: у одного она, «беспардонно» распугивая всех, несется куда глаза глядят; у другого, словно величавая колесница, въезжает в безоблачное будущее. Сам же автор дает понять, насколько эти измышленные в полемическом запале «тройки» не похожи на ту, которая летела в Мокрое с живым, безудержным, влюбленным, грешным, кающимся Митей, воплощением «русской души». Путь Митиной тройки проблематичен и чреват опасностями: подгоняемая его нетерпением, она в бешеной скачке рискует сорваться в овраг, или Митя во внезапном порыве отчаяния способен остановить ее на полдороге и пустить себе пулю в лоб. Но Достоевский усматривает для этой «тройки» путь надежды: Митя все-таки прибывает к месту, где наконец совершается просветление его страстей и начинается путь очищения страданием.
Автор «Братьев Карамазовых», задумываясь над положением России, уповал на двуединый нравственный процесс, изображенный в жизненном пути Мити и Алеши. Во-первых, это добровольное претерпевание заслуженных и незаслуженных испытаний, с тем чтобы изжить в себе «беспорядок», ту самую моральную аморфность, какую имеет в виду Митя, говоря: «Высшего порядка во мне нет». Во-вторых, это деятельный и общественно-значимый выход к другому. Создавая своего рода мемориальный кружок вокруг жертвенной личности покойного Илюшечки, Алеша следует примеру своего наставника, который «любовью… воздвиг кругом себя целый мир любящих». Илюшечкина община оказывается новым, нетрадиционным побегом на древе духовной традиции. Так Алешей сеется зерно не программно-отвлеченного, а непосредственно братского единения, а Митина очистившаяся душа – почва, в которой такое зерно, по Достоевскому, должно прорасти, принеся в конце концов изобильный урожай вселенского братства.
Это грандиозное этическое задание и есть последнее слово Достоевского, общее для финала «Братьев Kaрамазовых» и создававшейся одновременно Пушкинской речи. С восторгом откликаясь на нее, тогдашний вождь славянофильства И. С. Аксаков даже изобретает торжественный неологизм «всебратство», чтобы выразить свое полное единодушие с идеалами и чаяниями писателя (из письма И. С. Аксакова от 20 августа 1880 года.[126] Но, размышляя о «чувстве всебратства» у русского народа, Аксаков, в отличие от Достоевского, невольно делает упор на настоящее, в котором народный характер рисуется ему уже положительно завершенным, а не на будущее, когда этой способности к «всебратству» предстоит явить себя в творчестве новых общественных форм.
Достоевский же был озабочен будущим… Поэтому свои идеи нравственного служения он адресовал молодежи. Образом Алеши он надеялся популяризовать путь «деятельной любви» и вместе с тем уловить реальные черты нового деятеля на этом поприще. Действительно, среди его младших современников находились замечательные представители Алешиного духа. Каким энтузиазмом, какой готовностью к конкретному делу веет, например, от одного частного документа той поры: «Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое объединит очень многих – и нас с Вами очень близко. Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога. Правда, Вы лучше меня готовитесь к этому служению – живя для других и делая добро окружающему Вас миру <…> я говорю о неведомом – откроется ли оно? Одно несомненно, что без этого жить нельзя». Это строки из письма Владимира Соловьева его слушательнице на женских курсах и близкой приятельнице Елизавете Поливановой;[127] обоим было тогда, в 1877 году, по двадцать с лишним лет. Елизавета Михайловна Поливанова принадлежала к особо выделенному Достоевским типу русской девушки, о котором он говорит в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой и безо всяких отговорок все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, – убеждение в высшей степени верное и нравственное…».[128] Когда во время русско-турецкой войны Лизе Поливановой не удалось уехать на сербский фронт, где уже воевали ее братья, она стала сестрой милосердия в подмосковном госпитале. Этот поступок и имеет в виду Соловьев, говоря о ее служении окружающим. А упоминая в письме о «неведомом боге» грядущего, он подразумевает «софийную» гармонизацию земного бытия – идеал, формулируемый им в семидесятых годах и созвучный близко общавшемуся с философом Достоевскому.
Ознакомительная версия.