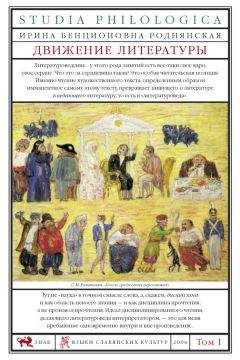Ознакомительная версия.
Одному из глубоких исследователей писателя Б. Энгельгардту принадлежит применительно к основным созданиям Достоевского определение: «идеологический роман». М. М. Бахтин не отверг эту дефиницию, а принял ее с той поправкой, что Достоевский выступает не пропагандистом, а портретистом идей, идеологий. Примем это определение как рабочий термин и мы. Так вот, можно сказать, что большим «идеологическим» романам Достоевского предшествуют его малые «антропологические» (человековедческие) романы и повести. В центре их – амбициозная личность с искривленным, извращенным чувством своего достоинства. Это «поэты» бытового авантюризма – как госпожа Москалева в «Дядюшкином сне», и «поэты» тиранства – как Фома Опискин, мировой тип, созданный Достоевским. Поэт здесь очень важное слово – иначе говоря, тот, кто пытается перекроить мир не заради частной выгоды, а по мерке своего хотения, во имя выгоды «бескорыстной» – воли к власти. От Опискина идет прямая дорожка к героям «Бесов»; вспомним, что Петруша Верховенский – «энтузиаст» в том самом смысле, в каком Фома – «поэт»: ведь тот же Фома на своем усадебном островке, в своей Икарии предвосхищает шигалевский эксперимент, рассчитанный в масштабе континентов, вводя все в таких случаях положенное, вплоть до раздачи новых именований и реформы календаря. Антропологическая тайна Фомы раскрывается в словах, сказанных о нем одним из персонажей «Степанчикова»: «Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может».
Затем, вслед за поэтами тиранства, это категория лиц безудержных, «выскочивших из мерки», внезапно извергающих из себя сдавленную обстоятельствами энергию своеволия. «На время человек вдруг выскакивает из мерки», – говорится у Достоевского об иных узниках Мертвого дома, которых в состоянии такого экзистенциального бунта не могут остановить уже ни угрозы, ни увещевания, ни истязания. Неуправляемость этого рода присуща, по наблюдениям Достоевского, чаще простолюдину («Да простого-то человека я и боюсь!» – говорится у него в «Селе Степанчикове»), но она схватывает и тонко играющего мыслью, блистательно рефлектирующего героя «Игрока»: «Просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут», – с полным основанием говорит о себе этот интеллектуальный представитель «русского безобразия», столь богатого возможностями, но столь опасного в своей безбрежности.
Это – еще одна категория – и самовлюбленный прожектер-теоретик, герой «Скверного анекдота», администратор с либеральными фантазиями, которые при столкновении с неподатливой жизнью он немедленно отбрасывает и, согласно многократно описанной Достоевским диалектике перехода умозрительного либерализма в деспотизм, обращается к рецепту: «Строгость, строгость и строгость». Это, наконец, подпольный рефлектер-парадоксалист, который восклицает о себе: «Я не могу… мне не дают быть добрым!», – потому что его уязвленная самость непрерывно болит и безуспешно алчет утоления через попрание другого человеческого «я».
Все эти герои, включая человека из подполья, играющего идеями, но не придавленного ни одной из них, – все они существа еще не идеологизированные. Они только безосновные существа. «Где у меня первоначальные причины, на которые упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» – недоумевает и жалуется подпольный. Их своеволие, не получая никакого внутреннего оформления и обуздания, не ведая ничего о радости самоограничения и самосовладания, беспорядочно вырывается наружу и выбирает случайных жертв своего деспотизма.
В «Записках из Мертвого дома» Достоевским сказаны страшные слова, страшные именно в качестве общественного прогноза. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке». Меня всегда, как только я натыкалась на эту фразу, поражало в ней слово «современный». Разве – если уж доверять преданию о грехопадении, которому, без сомнения, следует Достоевский, – эти свойства не находятся в «зародыше» в человеке любых времен, начиная с Каина, из зависти погубившего брата своего Авеля? Но теперь, как мне кажется, я понимаю, что хотел сказать Достоевский этим тревожным словом. «Современный человек» – значит, человек, покинувший вселенную христианства, отданный на съедение своей обособившейся самости, понизивший свое личное достоинство от подражания абсолютной личности Христа до голого самоутверждения и похоти властвования. Такой «современный человек», не имеющий внутреннего упора и точки соединения с другими людьми, – он, впрочем, «палач» лишь в зародыше, в потенции, в возможности. Но возможность становится действительностью, как только в его внутреннюю пустоту вселяется «скверная трихина» идеологической агрессии и замещает отсутствующие онтологические основания. Те палаческие свойства, которые доселе бессознательно дремали «в зародыше», отмобилизовываются и преобразуются в законопреступное деяние…
До сих пор в нашей и мировой науке о Достоевском идут споры: что толкнуло Раскольникова на путь палача – самоутверждение, презрение к обыденной морали (под которое тоже можно подвести идеологическую – штирнеровскую либо наполеоновскую – базу, но которое, в сущности, в такой базе не нуждается, ибо Достоевский оставил портреты подобных «сверхчеловеков» из простонародья тоже) – или же чисто идеологическое убеждение, что во имя социальной справедливости можно пренебречь жизнью вредной и никчемной старушонки. Но в том-то и секрет, раскрытый Достоевским, что здесь нет никакого «или – или», что самоутверждение Раскольникова («Я для себя одного убил!») и идея, дозволяющая ему «кровь по совести», взаимно индуцируют и подкрепляют друг друга, что вместе с внедрением такой идеи-трихины падает последняя, совестная преграда между экспансионистским «я» и миром как объектом его притязаний.
Достоевский жил уже в век идеологий (по мнению некоторых историков идей, мы отпраздновали двухсотлетие этого «эона» вместе с юбилеем Великой французской революции). И он понял, что защита человеческой личности от тирании чьего бы то ни было взбесившегося «я» есть одновременно защита ее от идеологической атаки. Задатки палача переходят, согласно его антропологии, в задатки диктатора и совпадают с задатками доктринера.
Достоевский предупреждает, что на лицо человеческое могут наступить две идеологии, всходы которых он наблюдал вокруг себя. Это идеология перекройки человечества «по новому штату» – и идеология «золотого мешка», «идея Ротшильда», как она названа в «Подростке». Замечу сразу, что последняя для Достоевского – не просто практическая власть денег, не просто явление социальной жизни или черта нарождающейся в России экономической структуры, а именно идейный принцип, на свой лад обосновывающий волю к власти. Деньги как мистический фетиш, как символ господства над жизнью и честью человеческой (а вовсе не как источник благ, роскоши, наслаждений или деловых инициатив) фигурируют в четырех из пяти больших романов Достоевского и не играют сколько-нибудь заметной роли только в «Бесах», как бы уступая натиску другой мощной идеологической заразы.
Скажу тут же, чтобы больше к этому специально не возвращаться: страх Достоевского перед тем, что принято называть развитием товарно-денежных отношений (помните апокалиптического всадника, о котором толкуется в романе «Идиот»: в руке у него весы, все меряется и оценивается, идет на обмен, на продажу, и это значит, что конец близок), – не кажется ли этот страх сейчас преувеличенным? Это была роковая мания русской мысли – от Победоносцева до народников, от петрашевцев до Блока: «отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана», «век буржуазного богатства, растущего незримо зла» и пр., лучше, дескать, что угодно, чем это. В записных тетрадях Достоевского можно обнаружить даже такое: «купец есть лишь развратный мужик» – явная несправедливость к русскому купечеству в его экономической и культурной перспективе. Впрочем, мысль Достоевского, в поисках противоядия Ротшильдовой идее, никогда не соскальзывала к утопическому отрицанию собственности. От этого предостерег его опыт Мертвого дома, где лишение свободы («А чего не отдашь за свободу?» – восклицает повествователь «Записок из Мертвого дома») и лишение собственности стояли рука об руку как две стороны одной и той же пытки. «Без труда (имеется в виду свободный, не принудительный труд. – И. Р.) – и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя» – слова из тех же «Записок…». Острый практический толк Достоевского (а его «идеализм», как он сам понимал, бывал реальнее «реализма» его оппонентов) вкупе с его метафизическим чутьем подсказывали ему корректирующий противовес развитию промышленности и банка, буржуазному Хрустальному дворцу, виденному на всемирной промышленной выставке в Лондоне и оставившему гнетущее впечатление. Выход этот – земля.
Ознакомительная версия.